«Евгений Онегин» и творческая эволюция Пушкина. Часть 2
Автор:
Немзер Андрей
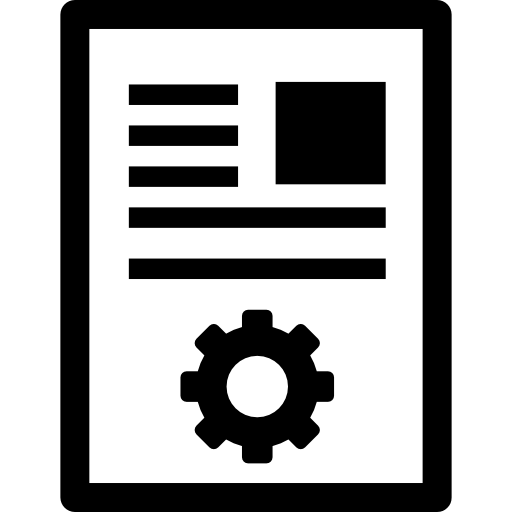
Видимо, по той же “антионегинской” линии Пушкин предполагал двигаться и в первом варианте восьмой главы (“Странствие”). Показательны саркастические ноты в черновых вариантах строфы <5> с неожиданным онегинским патриотизмом “В Hotel des Londres что в Морской” (475 — 476, 495). Однако вступительные строфы (позднее в переработанном виде вошедшие в заключительную главу) рисуют более сложную картину. Пушкин не случайно перепробовал здесь много вариантов (473 — 475, 493, 494 — 495, 169). Если слова “Блажен кто признал голос строгой / Необходимости земной / Кто в жизни шёл большой дорогой / Большой дорогой столбовой” (473) исполнены лирической серьёзности, то заключение того же первого чернового варианта строфы <1> (“И небу дух свой передал / Как сенатор иль Генерал” — 474) уже кажутся “чужой речью”. (Эта двойственность перейдёт в окончательный текст, где за кодой X строфы восьмой главы — “О ком твердили целый век: / N. N. прекрасный человек” — следует энергичное опровержение строфы XI — “Но грустно думать, что напрасно / Была нам молодость дана…” — 169 — 170. ) Правильная (как у людей) жизнь оказывается чреватой пошлостью, норма — обрядом, подчинение традиции — подчинением толпе. В этих строфах, писавшихся в октябре 1829 года, обнаружился тот внутренний конфликт творчества Пушкина второй половины 1820-х годов, что был рассмотрен выше. Приговор Онегину грозил обернуться приговором самому себе, своему “лирическому голосу”. При этом тема странствия не давала возможности оправдать героя: либо привычная онегинская “тоска” на фоне мощных исторических воспоминаний, российских просторов и серьёзной политики (“декабристская” линия новейшей истории), либо “разбойничий демонизм”, угадываемый Ю. М. Лотманом. Глава осталась не только неотделанной, но и явно недописанной (даже “болдинской осенью” она достигла лишь 34 строф), “противоречия” её не обрели конструктивного смысла. 24 декабря 1829 Пушкин начал работать над главой девятой, явно мысля её финальной. Глава начиналась с воспоминаний лицейской юности, с темы рождения поэта — такой зачин не мог быть прихотью, он предполагал (как и вышло) окончательное прощание с прежней жизнью, неотъемлемой частью которой был “свободный роман”. Иначе говоря, к этому моменту Пушкин почувствовал потребность “свернуть” своё “большое стихотворение”29.
“Болдинская осень” 1830 года была посвящена подведению итогов. Предстоящая женитьба означала конец скитаний, а напряжённый политический контекст (революция во Франции, чреватая общеевропейскими переменами и, возможно, новым столкновением Европы и России) сулил возможность более продуктивного диалога с императором (добрым знаком стало августейшее разрешение публикации “Бориса Годунова”). Предстояла новая жизнь — манящая и пугающая, суровая, но допускающая возможность счастья и творчества (об этом написана болдинская “Элегия”). Резкое завершение “Евгения Онегина” было актом знаковым.
И здесь для Пушкина вновь оказывается важным опыт “Дон-Жуана”. Выше мы говорили о том, как Пушкин приравнивал собственное тридцатилетие к тридцатипятилетию Байрона, чья поэма осталась незаконченной из-за смерти автора. Альтернативой смерти становилась “новая жизнь” (то, что поэт нашего века назовёт “вторым рожденьем”; вероятно, с этим связан мотив ранней смерти в последней онегинской строфе) — мнимая незавершённость пушкинского романа становилась эквивалентом реальной незавершённости байроновской поэмы. Но этим дело не ограничилось. Последней онегинской главе предпослан эпиграф из Байрона, а описание петербургского “большого света” ориентировано на “английские” (последние) песни “Дон-Жуана”30. В английских главах Байрон примеривается к традиционной для дон-жуановской легенды развязке. Жуан пугается призрака, леди Амондевил поёт романс о монахе, объясняющий появление привидения. Правда, в последней — 123 — строфе шестнадцатой песни призрак оказывается графиней Фиц-Фальк, соблазняющей соблазнителя, а начальные (последние из написанных) строфы песни семнадцатой повествуют об утренней встрече тайных любовников, но перспектива перехода от фривольной игры к возмездию (явление настоящего монаха-призрака) кажется вполне вероятной.
Пушкин, позаботившись об эффекте “неоконченности”, в то же время как бы дописывает “дон-жуановский” сюжет. Онегин впервые влюблён по-настоящему, он выслушивает отповедь любимой, “Но шпор незапный звон раздался, / И муж Татьяны показался, / И здесь героя моего / В минуту, злую для него, / Читатель, мы теперь оставим, / Надолго… навсегда” (189). В бытовых петербургских декорациях разыгрывается та же мизансцена, что будет воспроизведена в декорациях, так сказать, “легендарно-испанских” месяц с небольшим спустя. Девятая, ставшая восьмой, глава “Евгения Онегина” завершена 25 сентября, а “Каменный гость” — 4 ноября 1830. На близость Онегина заключительной главы и Дон Гуана проницательно указывала Ахматова, связывая её с “лирическими” и даже “автобиографическими” мотивами в обрисовке этих персонажей31. Так из-под “мельмотовской” маски Онегина в последний момент выглянула маска байроновского героя. Прощание предполагало оглядку на начало “большого стихотворения”32.
И это же прощание заставило Пушкина максимально сблизиться со своим героем и пересмотреть приговор, вынесенный в седьмой главе. Теперь укоризны Онегину — удел “самолюбивой ничтожности”, решительно оспариваемой автором (169). Открытие в бесприютном Онегине того “я”, от которого Пушкин стремился уйти, обусловило последний (после болдинского завершения) этап работы над романом летом 1831 года. Результатом её стало появление “Письма Онегина к Татьяне”, явно свидетельствующего о настоящем чувстве героя, что прежде почитался неспособным на страсть, и исключение главы “Странствие”. Пушкин предпочёл разрушить явно нравившийся ему симметричный “девятиглавый” план и пойти на композиционный разрыв (специально оговорённый в первом издании восьмой главы), дабы не продолжать линию принижения Онегина33.
Вместе с “Евгением Онегиным” окончилась пушкинская молодость. На новом этапе поэт постоянно обращался к тем серьёзным историческим, политическим и экзистенциальным проблемам, что были поставлены во второй половине 1820-х годов. Но писать “свободный роман” он больше не хотел и не мог. Это касается не только собственно продолжения Онегина34, но и “Езерского”. Обратившись к любимой строфе и свободной разговорной интонации, но отказавшись от “странного” героя (Езерский подчёркнуто дистанцирован от романтических персонажей, в родстве с которыми был Онегин: “Не второклассный Дон Жуан, / Не демон — даже не цыган, / А просто гражданин столичный, / Каких встречаем всюду тьму”35), поэт вскоре понял, что новый “роман в стихах” не выстраивается. Вместо “Езерского” появился “Медный всадник”, простой герой которого получил благородное имя, что “Звучит приятно; с ним давно / Моё перо к тому же дружно”. Пушкинские прощания никогда не были окончательными.
Примечания
1 “Евгений Онегин” цитируется по изд.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. — [Л.], 1937. Т. 6.
2 Лотман Ю. М. К эволюции построения характера в романе “Евгений Онегин” // Пушкин: Исследования и материалы. — М.; Л., 1960. Т. 3; Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина “Евгений Онегин”. Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста // Лотман Ю. М. Пушкин. Статьи и заметки. 1960 — 1990. “Евгений Онегин”. Комментарий. — СПб., 1995. С. 395 — 411. Далее это издание именуется сокращённо: Лотман. Пушкин.
3 Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. — М., 1983. С. 251 — 252.
4 Дьяконов И. М. Об истории замысла “Евгения Онегина” // Пушкин: Исследования и материалы. — Л., 1982. Т. X. С. 78.
5 Кроме того из крупных сочинений в онегинское семилетие был написан “Граф Нулин”, шла работа над явно претендующим на “главенство” — после неудачи с изданием “Бориса Годунова” и до “Полтавы”, — но оставленным романом о “царском арапе”, формировались замыслы современного прозаического повествования большой формы (“Роман в письмах”, “Гости съезжались на дачу…”). Осознав болдинской осенью 1830 года роман завершённым, Пушкин сразу же реализует замыслы “Повестей Белкина”, “Домика в Коломне” и “маленьких трагедий”.
6 Выражение из письма к П. А. Вяземскому от 4 ноября 1823: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. — Л., 1979. Т. Х. С. 57.
7 Там же. С. 66 (письмо Л. С. Пушкину от января — начала февраля 1824).
8 Там же. С. 62.
9 Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. — Л., 1991. Сост. М. А. Цявловский. Изд. второе, испр. и доп. С. 471.
10 Там же. С. 486. Бируков, видимо, действовал по прямому указанию министра народного просвещения А. С. Шишкова — накануне Жуковский читает главу А. С. Шишкову. Там же. С. 485.
11 См.: Eugene Onegin: A Novel in Verse by Aleksandr Pushkin. Translated from the Russian with a Commentary by Vladimir Nabokov. — N.-Y., 1964. Vol. 2. P. 35; Лотман Ю. М. Три заметки о Пушкине. 1. “Когда же чорт возьмёт тебя” // Лотман. Пушкин. С. 342; ср.: там же. С. 547.
12 См., например, статьи “Пушкин и “Повесть о капитане Копейкине” (К истории замысла и композиции “Мёртвых душ”)” // Лотман. Пушкин. С. 266 — 280; “Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лотман Ю. М. О русской литературе. Статьи и исследования (1958 — 1993). История русской прозы. Теория литературы. — СПб., 1997. С. 712 — 729 и воспоминания В. С. Баевского // Russian Studies. 1994. V. I. № 1. С. 17.
13 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. Х. С. 57. Пушкин педалирует “неподцензурность” своего нового произведения (см. выше), стараясь заранее настроить своих корреспондентов (будущих читателей) на “байроновскую” волну. Существенно, что указание на сходство с “Дон-Жуаном” делается уже по завершении первой главы (22 октября 1823 года). Таким образом внутритекстовое отмежевание от Байрона (LVI строфа) никоим образом не отменяет ориентации на “Дон-Жуана”. Утверждающаяся в этой строфе “разность между Онегиным и мной” (28), героем и автором противопоставлена поэтическим принципам “восточных поэм”. Байроновский Дон-Жуан (в отличие от Гяура, Конрада, Лары) тоже отнюдь не двойник автора.
14 Там же. С. 103.
15 Байрон Дж. Г. Соч.: В 3 т. — М., 1974. Т. 3. С. 12. Перевод Т. Гнедич.
16 Там же. С. 13.
17 Ср. Лотман Ю. М. О композиционной функции “десятой главы” “Евгения Онегина” // Лотман. Пушкин. С. 468 — 471.
18 Дьяконов И. М. О восьмой, девятой и десятой главах “Евгения Онегина” // Русская литература. 1963. № 3. С. 37 — 61; Дьяконов И. М. Об истории замысла “Евгения Онегина”. С. 92 и сл.
19 Там же. С. 98.
20 Байрон Дж. Г. Указ. соч. С. 397 — 398.
21 В разговоре с Кс. А. Полевым как раз в связи с XLIV строфой шестой главы Пушкин назвал эту дату “роковым термином”. См.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. — М., 1974. Т. 2. С. 62.
22 Дьяконов И. М. Указ. соч. С. 92 — 93.
23 Эта, долго по советским цензурным условиям не проговариваемая публично, но в общем-то простая мысль была впервые чётко заявлена в наделавшей в свою пору много шума статье: Непомнящий В. С. Судьба одного стихотворения // Вопросы литературы. 1984. № 6.
24 Любопытно, что мысль о самодостаточности истории (её ценности вне зависимости от сегодняшнего политического контекста, а стало быть необходимости внеаллюзионного отношения к прошлому) и самодостаточности (боговдохновенности) поэзии возникают у Пушкина одновременно — в “Песни о вещем Олеге” (1822), явно полемической по отношению к рылеевским “Думам” и вызвавшей законное неудовольствие Рылеева и Александра Бестужева. Эпистолярный спор Пушкина с издателями “Полярной звезды” (1825) постоянно выходит на проблемы самодостаточной истории и самодостаточной поэзии (ср., в частности, декабристское недовольство “свободным романом” и его героем). Подробный анализ этой эпистолярной дискуссии предпринят Н. Я. Эйдельманом. См.: Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. Из истории взаимоотношений. — М., 1979. С. 286 — 305. Здесь, вероятно, следует отметить, что пушкинская защита Жуковского, подвергавшегося в 1824 — 1825 годах систематическим порицаниям со стороны едва ли не всех “младших” литераторов, обусловлена не только личной приязнью и уважением к заслугам старшего собрата. В Жуковском Пушкин справедливо видел образец свободного творца, создателя не зависящей от локальных обстоятельств самодостаточной поэзии. Не случайно “Песнь о вещем Олеге” развивает мотивы “Графа Гапсбургского” Шиллера-Жуковского (сакральность поэзии, равенство певца и властителя), что подчёркнуто их метрико-строфическим родством. В этой связи см.: Немзер А. С. “Сии чудесные виденья…” Время и баллады Жуковского // Зорин А. Л., Немзер А. С., Зубков Н. Н. “Свой подвиг свершив…” — М., 1987. С. 223 — 226.
25 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 т. — Л., 1977. Т. IV. С. 213, 220, 182, 187. Ср. также пушкинские замечания о Мазепе в “Опровержениях на критики” с прямым указанием на значимость “интимного” сюжета для концепции поэмы: “Прочитав в первый раз в “Войнаровском” сии стихи:
Жену страдальца Кочубея
И обольщённую их дочь,
я изумился, как мог поэт пройти мимо столь страшного обстоятельства”. Цит. по: Пушкин А. С. Указ. соч. Т. VII. С. 134.
26 В 1830-х годах эта концепция становится для Пушкина абсолютно неприемлемой.
27 Там же. Т. III. С. 23.
28 Ю. М. Лотман убедительно показал, как Онегин, постоянно нарушая поведенческие нормы, стремился сорвать дуэль; см.: Лотман. Пушкин. С. 533 — 534, 679. Это не снимает вину с героя.
29 А это значило, что проблематичный “двенадцатиглавый” план отвергнут окончательно. Предположение о том, что Пушкин сперва ставит смысловую точку, а затем сочиняет ещё три “временно пропущенных” главы, радикально противоречит “дневниковой”, свободной, спонтанной природе “Евгения Онегина”.
30 Ср. наблюдение Ахматовой: “Байроновский приём: “There was…” и “There were…” — “Тут был…”, “Тут были…”. Цит. по: Ахматова, Анна. О Пушкине. — М., 1989. С. 179.
31 Там же. С. 191 — 193. Для Ахматовой байроновский подтекст этих сочинений не значим.
32 Наряду с оглядкой на Байрона, его поэму, героя, жизнь и уход (характерно, что, завершив своего “Дон-Жуана”, Пушкин в Болдино же сочиняет своего “Беппо” — “Домик в Коломне”, пародирующий “Евгения Онегина” и ему сопутствующий), в заключительной главе чрезвычайно важна оглядка на другого пушкинского поэтического учителя — Жуковского. Если байроновские реминисценции относятся преимущественно к сфере проблемного героя, то отголоски поэзии Жуковского сопутствуют неизменной героини. “Спутник странный” и “милый идеал” суть полюса, заданные, вероятно, самыми важными для Пушкина поэтами-современниками. Отметим также, что финальная строфа “Евгения Онегина” отсылает не столько к эпиграфу “Бахчисарайского фонтана” и связанной с его рецепцией декабристской проблематикой, сколько к стихам Жуковского — переводу посвящения к “Фаусту”, превращённому русским поэтом в посвящение к долго писавшимся “старинной повести” “Двенадцать спящих дев”. У Пушкина, как и у Жуковского, речь идёт не просто о неумолимом ходе времени-истории, но о распаде круга читателей-слушателей. Ср.: “К ним не дойдут последней песни звуки; / Рассеян круг, где первую я пел; / Не встретят их простёртые к ним руки; / Прекрасный сон их жизни улетел. / Других умчал могущий Дух разлуки; / Счастливый край, их знавший, опустел; / Разбросаны по всем дорогам мира — / Не им поёт задумчивая лира” (цит. по: Жуковский В. А. Соч.: В 3 т. — М., 1980. Т. 2. С. 74) и “Но те, которым в дружной встрече / Я строфы первые читал… / Иных уж нет, а те далече, / Как Сади некогда сказал…” (190). Проблема “Поэзия Жуковского в “Евгении Онегине”” рассматривается нами в специальной статье.
33 Разумеется, немаловажен был здесь и политический аспект. Однако скорее всего он сводился к автоцензуре, понятной в лето польского восстания и холерных бунтов, когда Пушкин занял жёстко государственническую позицию. Поэт безусловно мог освободить “Странствие” от взрывоопасных эпизодов (судьба “декабристских” строф, уже отошедших в имеющий особый — и неясный — статус “Х песнь”), а противопоставление скучающего Онегина великой стране со славным прошлым никак не входило в противоречие с государственным курсом. Пушкин, однако, предпочёл иное — неожиданное — решение. Композиционный смысл “Отрывков из Путешествия Онегина”, опубликованных в первом полном издании романа, достаточно подробно истолкован в известных работах Ю. Н. Чумакова и Ю. М. Лотмана.
34 См.: Левкович Л. Я. Наброски послания о продолжении “Евгения Онегина” // Стихотворения Пушкина 1820 — 1830-х годов. — Л., 1974.
35 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 т. Т. IV. С. 250 — 251.
