Пожар Латинского проспекта. Глава 4
Жанр:
Сентиментальное
Вид:
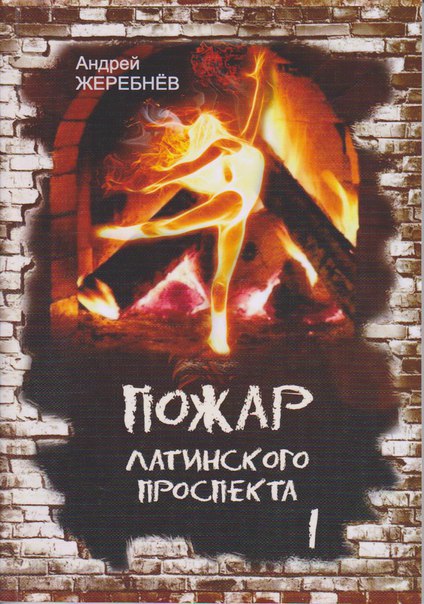
— Любовь у меня, Светлана, любовь! — счастливо оправдывался я.
— Какая ещё любовь? — пеняла мне хозяйка мангала. — Ты — семейный человек!
— Несчастная, ясное дело — какая другая у меня-то может быть?
Цокнув языком и головой покачав, пошла Светлана с Богом — цветы на зиму укрывать, оставив счастливого блаженного со своей несчастной любовью.
Впрочем, «Каталонскую» (поберёг всё же Гаврила хозяев язык) арку она оценила вполне: «Я ещё такого ни у кого не видела».
А прекрасный чистый день рвал душу…
Гаврилы голова кружится,
Когда в синь неба задерёт:
Любовь там реет гордой птицей.
Благословен её полёт!
Задирать голову вверх теперь приходилось — предстояло гнать трубу. И чем-то её высокохудожественно завершать: венец — делу конец!
Хозяева сначала замахнулись на три– четыре метра высоты, но, к счастью моему, кирпичей оставалось только на два. А Гаврила меж тем уже теял в сумасбродной своей головушке то, что наверняка должно было сразить хозяйку в самое сердце, —
а тогда и мелкие грехи-огрехи простятся. У Гауди, опять же, это подсмотрел, самородок! Но до поры молчал разумно умелец —пусть бабахнет пробкой шампанского.
* * *
— Ну, рассказывай, отец родной, что у тебя там опять стряслось?
Алла разогревала в кастрюльке на газовой плите красное, мною принесённое вино с дольками лимона. Шашлык, пожаренный меж кирпичей во дворе, остывал в широком блюде.
Мягко спускавшиеся сумерки заканчивали дачное воскресенье, навевая тихую, неизбывную грусть о неизбежно грядущем понедельнике.
— Алла, беда! Любовь у меня приключилась!
Честно отработав день у Светланы с Александром и добросовестно выждав, когда хозяева соберутся и уедут домой, я следом выдвинулся к Алле — инкогнито она приглашала. На вполне конкретный разговор.
— Ха, любовь! Вить, ты слышишь? Я валяюсь!
Витя отсутствующе хмыкнул. Был он сейчас очень далеко и слишком выше этой суеты. Любовь — не любовь, пришла — приключилась, ушла — исчезла… Баловство всё это и детство! Вот он вчера вечером уговорил, по большой любви, две большие баклажки с пивом, закрепив чувство ещё и несколькими рюмками водки. Вот это серьёзно. И до чего ему было сейчас? Скорее бы «Лёлика» домой отвезти да, ставя у дома микроавтобус, по ходу дела «зацепить», опять же, «полторашечку» холодного, шипящего, сердцу милого пивка — вот это да!
— Так, а она кто? Подруга, ты говоришь, твоей Татьяны?
— Да, работают они вместе, знакомы уж уйму лет — я тогда у Татьяны на горизонте и близко ещё не появился. Да и я Любашу знаю двенадцать лет… Думал, что знаю.
— Её, значит, Любой зовут?.. Любовь! — Алла помешивала свой глинтвейн. — Ну и что ты хочешь — опять всё сначала начать? Во второй раз?
— Да подожди, Алла, не про то разговор! Что я — сам не знаю, что Танюха — чистое золото, лучше её мне никого не найти…
— Правильно, кто же тебя, гонимого, ещё бы терпел столько лет!
— Но, понимаешь — снесло башню!..
— Слышь, Вить, а она у него разве была?
— Напрочь снесло. Ух!.. Чё скажешь-то?
— А что сказать — дурак ты, вот и всё. Но ты и сам, вижу, об этом знаешь… О-ой! — Алла протяжно вздохнула. — Тебе говори, не говори — ты же, дурачок, не слушаешь. И всё равно по-своему сделаешь. А где вы занимаетесь?
— В «Вестере» бывшем, на Ленинском — четвёртый этаж.
— Так это рядом с нами, да? По вторникам и четвергам, говоришь? В шесть?
Дачный глинтвейн получился на диво. Даром, что шашлык совсем остыл.
— Твоя Татьяна, — Алла тщательно подбирала слова, — неумная женщина — вот что я скажу. Отправила бы я Старого на танцы — ха! Я бы ему такие танцы устроила! Да, Старый, чего молчишь?
Витя с достоинством отвёл взор в проём окна с серыми силуэтами дачных крыш и темнеющим уже небом, устремившись, наверное, в холостяцкую свою, морскую молодость. Залихватскую, бесшабашную, забубённую. Где среди жгучих кабацких плясок было и топтанье медленного танца, в котором партнёрши, за мужской его неотразимостью, были на выбор, а счёт лишь один: «Раз — и в койку!»
* * *
Сегодня Нахимова за обедом подходит. Садится напротив, в глаза смотрит, как собачонка, молчит. «Случилось что, Люба?» — «Да нет… Ты на меня ни за что не обижаешься?» — «Я -то нет. Что-то не так?.. Алексей чего-то не то делает?.. Или как партнёр тебя не устраивает — тебе что-то не нравится?» — «Нет, что ты — меня всё устраивает!.. Просто, я не думала, что Алексей такой обаятельный — я его совсем другим представляла». Сидит. «Ну, поговори со мной!» — «Так всё, Нахимова, давай — шуруй, мне в десятом сейчас урок вести».
* * *
— Румба!.. Следующий в латинской программе танец за ча-ча-ча.
В долгожданный вторник было всё тем чудесным образом, коим уже повелось. Работа в радость, в ожидании двух часов дня. Шустрые, до половины третьего, сборы инструмента в выделенный мне хозяевами предбанник, и — избушку на клюшку, дачный участок на замок: Лёха поехал на танцпол. Святое! Желательно было успеть домой в четыре. Тогда можно совершенно не спеша принять душ, с душою побриться — тщательно и осторожно, и, пока сохнут волосы, душевно поговорить с Татьяной о сущем.
— Насчёт денег сильно не переживай. Если через неделю принесёшь — дотянем. Нам завтра–послезавтра зарплату на карточку переведут. Заканчивай, только, давай там поскорей — надо уже морские документы делать.
Без пятнадцати пять можно уже было начинать обстоятельно одеваться, освежаясь, по ходу дела, дезодорантом — к живой радости Семёна: «Мама, а он и там пшикнул!» — «Алексей, ты куда собираешься — точно на танцы?» А в десять, самое крайнее — пятнадцать минут шестого пора было, благодарно кивнув на пожелание Татьяны («Удачи!»), выходить из дому. Минуя лужи, пройти наискосок два немноголюдных двора — сквозь огороженную сеткой площадку для баскетбола и детскую площадку.
Внимательно глядя по обе стороны, прошмыгнуть по пешеходному переходу к Рыбной деревне. И там, приостановившись, потрепать по затылку медную, приносящую удачу, обезьянку, сидящую у пожилого морехода на коленях, коснуться в рукопожатии и его бронзовой руки: «Спасибо, мореход!» За что? А за всё — за танцпол, за Любу, за вечер этот новый. А дальше, заручившись такой поддержкой, смело бежать через старинный мостик, приближаясь к самому опасному участку пути — к проспекту с шестью полосами двустороннего движения. Проспекту часа пик. И когда, подгадывая интервалы между машинами в первой его половине, я спокойно переходил вторую — светофор в сотне метров удерживал шальной поток, — становилось совершенно ясно: Небо меня не оставляет. На бегу и всуе благодарил я: «Спасибо, Господи, спасибо!»
И это было уже время счастья. Как и предстоящие два часа. Счастья, которого не мог омрачить даже Олежка Длинный, попадавшийся часто навстречу на том самом мостике — с работы шёл (тогда, синхронно отворачиваясь в стороны, мы корчили такие брезгливые гримасы — обезьянка бы подивилась). Нет, всей этой гадливой, вязкой серости никогда не коснуться, не вторгнуться, не посягнуть на этот чистый — как нетронутый искрящийся снег, как сверкающий солнцем лёд на неприступной горной вершине! — истинный мир. Она слишком пред ним ничтожна!..
— Румба — помним мы по самому нашему первому занятию — это медленный танец. Румба — это любовь и ревность. Здесь очень непросто уловить ритм — в этом сложность румбы. Начинаем с основного шага — то же самое, что и в ча-ча-ча, только без
промежуточного шага на «шоссе». Давайте попробуем, а потом изучим «алеману» с поворотом.
Шаги, за выбросом «шоссейного», дались мне сразу — точно так танцевали медленный танец «продвинутого» образца на дискотеках моей молодости. Только что без выпендрёжных коленей назад. А ритм я ловил наугад, не особо на нём заморачиваясь, — рядом была Люба, внимательно вслушивающаяся в мотив: «Сейчас… Ага — пошли!» А в чуть грустной, казалось мне, музыке были и узкие латинские улочки, извилистые каменные мостовые, и деревянные ставни окон, и тяжёлый, изо дня в день, труд за кусок хлеба для своей семьи, и унылая безнадёга всей жизни. Но пока видишь прекрасные, устремлённые прямо в твои, глаза — ты всё равно счастлив; пока держишь гибкий стан в своих объятиях — жизнь прекрасна, и стоит жить!.. И фиолетовая ночь надо всем — до самого утра… В общем, не так сложно мне было румбу понять — я из таких же кварталов! Вот только ча-ча-ча мне нравилось куда больше — искромётней и веселей.
Понятное дело, флиртовать — это не любить по-настоящему. До остановки проводил, на автобус посадил — так можно кабальерствовать!
— …Хочешь, зайдём — кофе выпьем?
— Ну, это чуть раньше надо было предлагать. Теперь меня дома ждут: Серёжа позвонил, они картофельное пюре для меня приготовили. Со сливочным маслом — ещё горячее!
Серёга готовил хорошо — Татьяна про то рассказывала: «Он ещё и на стол так накроет — как не каждая женщина сможет!»
— А ты строганину любишь? — Я вглядывался в номера подъезжающих с моста автобусов.
— Конечно! Когда я училась, одно время нам ребята знакомые приносили омуля — из него они строганину делали — и оленину…
— Омуль — вещь!
— Так мы с девчонками смеялись: «Что сегодня будем есть? Омуленину?»
— А ты никогда не думала домой вернуться?
— В Коряжму? Нет. В этом году я там, в отпуске, поняла отчётливо: меня здесь не будет. Нет, конечно, дома я такая для всех звезда!.. Но здесь возможности совсем другие. На уровень!
— Прямо скажем, — согласно кивнул я, — безграничные… Твой, Любаша, автобус.
Ух, развелось туполобых — один за одним едут!
Поцелуй в краешек губ с Любовью был на сей раз с привкусом ревности. К Серёже Заботливому, с картошкой его горяченькой, к ребятам из юности её, с омулем да олениной.
И разве был я в той ревности виноват — как в румбе учили!
* * *
Гаврила счастьем нынче был надутый!
Хоть и не жадничал тем, тому не понукал:
Сполна хватало! Целые прекрасные минуты
Её ладонь своею согревал…
* * *
— А Люба что заканчивала?
— Университет наш. Заочно. А до этого два курса училась в пединституте — там, у себя, в Архангельске. Ну вот, с Серёжей сюда приехала.
— А он служил тут?
— В морфлоте. Понравилось — остался на сверхсрочную. Так он сам к нам в школу сначала пришёл — всё разузнал. В форме, ладный, выправка военная. Помню, мы ещё смеялись: «Наконец-то настоящие мужчины к нам в школу пожаловали!» Думаю, Люба тоже на эту форму клюнула — военный моряк! Тем более, у них там.
— Так, получается, Люба с северов?
— А ты не знал? По ней разве не видно? Да она же сама тебе фотографии показывала. И рассказывала, когда мы у них в гостях были — не помнишь?
— Да чего-то мимо ушей, наверное, пропустил. Получается, в ней много кровей намешано?
— Ну, как она сама говорит: «Я маленькая чукотская девочка». Шутит. Сам у неё спроси…
* * *
В среду, когда я, только что успев переодеться, чин-чинарём возился уже с кирпичами, подъехал Саша. Привёз арматуру — для перекрытия мангала (сэкономили мы на уголках стальных). На эти прогибающеся стальные прутки, помимо двух рядов кирпичей перекрытия, должна была опереться тремя четвертями своей тяжести массивная труба с оголовком.
Мама Антонио Гауди, дорогая!
За арматуру же предполагалось зацепиться хлипкими своими проволочками и арке
Каталонской, на честном Гаврилы слове держащейся, которая, вообще-то, сама должна была нести трубы нагрузку.
Покажи, называется, ты Гавриле Барселоны собор — хотя бы и на картинке!
Хоть и неведомо было, каким образом что обо что обопрётся, но не дрожала верная рука: «Всё сойдётся красиво! Дуракам везёт».
Гаврила в счастье был везучим,
Он выше счастия не знал,
Чем ясно видеть, как сквозь тучи
Тот лучик золотой сиял!
А с другой стороны — гибкая арматура, в отличие от жёсткого уголка, сможет «дышать» при нагреве, выгибаться, пружинить и, тем самым, не разрушать кладку — работать на нагрев и остывание.
С умом ещё и получится!
Выдержит этот мангал и жар, и стужу, устоит и от штормовой с моря непогоды, переживёт ветра, ливни, снегопады и непутёвого своего создателя.
Гаврила шторма не боялся,
А в штиль лазоревых морей
Он с упоением купался
В безбрежии любви своей.
— Слушай, а ты одну арматуру-то свободной оставишь?
— Парочку — как договаривались. Разновысоких: одну для крючка — ведро с ухой подвешивать, а вторую уже в начале дымохода — для горячего копчения.
Сглотнув слюну, Александр удовлетворённо кивнул.
— Ладно, тогда поеду я — дела, по рейсу, всё морские. Да и лига чемпионов сегодня. Смотреть будешь?
— А то! «Рубин» же наш с «Барселоной» рубиться будет!
Езжай, конечно, Саша. «Ехай»! Без тебя всяк спокойнее.
В Гавриле чувство трепетало,
И без конца твердил он вновь,
С начала — с самого начала:
«Любовь!.. Любовь!.. Любовь!.. Любовь!»
Ох уж эти копчения! На легендарном, для нас со Славой, мангале «Мальборк», что калымили мы, в отрыве от Ушаковки, по выходным, а я ещё и по ночам (случалось!), дело было. Уже высился он могуче на трёх своих нижних арках, уже щурился сурово боковой своей бойницей (отверстие для вертела надо было под готику стилизовать), уже пленял взоры зевак («Ну и нагородил ты здесь, Лёха!»), когда притащил хозяин воскресным днём дружбана своего «лепшего»: «Зацени!»
— Вот это полочки для барбекю и шашлыков, вот здесь — видишь? — трещотки для вертела — поросёнка жарить будем! Здесь, в трубе, крюк для цепочки — для ухи, и съёмные крючки будут — для горячего копчения.
Хозяйский друг, насупившись, глядел исподлобья: нравилось ему.
— А холодного копчения, что ли, не будет? — проронил, наконец, он. — Я вчера леща закоптил — такая вещь!
— Лёша, а у нас что — холодного копчения не предусмотрено? — вмиг озадачился тамошний Александр (тоже хозяина так звали). — А ещё мы сможем его сделать , а? Доплачу — само собой!
Он был деятельный живчик. И доверял мне целиком и полностью: «Я в своей жизни талантливее масона — ты же вольный каменщик! — не встречал». Не мог я ничего на это возразить: против правды не попрёшь!
Результатом такой вольницы стало то, что планируемое поначалу барбекю в итальянских, ХIХ века, мотивах вдруг обозначилось мангалом — замком тевтонских рыцарей Мальборк: неисповедимы пути Господни. Те, которыми Татьяна в этом замке не раз со своими школьниками бывала, откуда альбом «Мальборк» привезла, и коими додумалась мне в руки дать…
Четверть часа, никак не меньше, кумекали мы да «втыкались» с Александром Мальборгским, как теперь коптилку воткнуть. Чертили палкой на песке, замеряли шагами, прикидывали. Дружбан, сдвинув брови, стоял тут же, слушал внимательно, молчал тактично, внимал чутко незадачливому упущению нашему. «Устаканили»: здесь землю подкапываем, дымоход в земле прокладываем, тут фундамент пробиваем, а здесь кирпич — никуда не денешься! — выковыриваем. Помучится Лёха, конечно, но сделает — как же Саня будет без коптилки-то холодного копчения?! Смысл просто всей конструкции теряется напрочь, поблекнет без неё сооружение — как есть!
— Вот только, Саня, в земле канал для дыма у нас будет всего полтора метра — больше теперь уж не получится.
— А надо сколько?
— По уму, метра четыре.
— А у тебя в земле сколько идёт, — живо обернулся Саня к другу, — в коптилке твоей?
— А она у меня электрическая. Чемоданчик такой — переносной.
Сволочью его только и назвать — а как ещё?
Но сделали мы коптилку холодную — хватило и полутора «земляных» метров. И теперь уж все было в полном ажуре: подземный ход холодного копчения теперь в мангале - замке имелся!
— Друзья говорят, — рассказывал после Саня, — мы к тебе приезжаем, как в музей. А
один, слышишь, дизайнер строительный: «А можно я буду говорить, что это наша фирма проектировала?»
Книжицу мою, по ходу дела подаренную, «заценил» аж с берегов Адриатики — в Хорватию с семьёй на отдых ездил: «Читаю, вот, сейчас на пляже — прикольно!.. Слушай, я-то понимаю — это душа твоя морская кричит! От матросского того бесправия, от
работы каторжной!»
Он был не дурак, этот Саня.
— Поэтому бросай ты это море — тебе надо со мной работать!»
Совсем не дурак был тот Саня! Хитрость уживалась с рубахой-парнем в нём самым причудливым и непостижимым образом. И душевно ли мне переживая, или, опять же, к себе перетягивая, про Ушакова Александр Мальборгский говорил не раз: «Ты что — собака на привязи? Раз не платят — да пошли ты их на …!»
Но этот смелый его замысел, который он тоже целиком и полностью доверял мне, я осуществить отчего-то никак не решался.
Не такой дурак!
* * *
А залучал меня на работу к себе он порой и так: «А у нас весна — лягушки по утрам квакаю-ют!»
Точно так же и Слава, через пару лет — из дома Вадима: «А у нас тут такая радуга!..»
И ведь ехал я, лопоухий!
* * *
В четверг в студию заявилась Алла. Не одна — с серьёзной своей подругой Ларисой. Лориком.
Серьёзно, получалось, всё уже было.
Лорик, кстати, тоже моей партнёршей по дансингу однажды была. Совсем недавно — в мае этого года, когда обмывали мы всей честной компанией установленную мной и Витей чугунную топку их с Аллой камина (Светлана Зоркая тоже была в числе приглашённых). Все уже разошлись — разбрелись, а мы всё выплясывали перед дачным домом, шевеля и толкая пластмассовый столик, с которого, по счастью, Алла уже всё убрала: «Арам-
зам-зам! Арам- зам- зам! Гули-гули, гули-гули, арам- зам-зам!» Пока таки его не завалили.
Я чуть запоздал. Не так, конечно, как Любаша, — она теперь опаздывала стабильно и всё больше. Когда я вбежал в зал, уже шла разминка. И Алла с Лориком, которых я впопыхах не сразу и заметил, кивали мне с боковых сидений. Своей милостью Артём всегда разрешал наблюдателям присутствовать на занятии. И то было честно и разумно. Люди ведь неспроста пришли посмотреть, а с задумкой, наверное, заниматься. Так пусть увидят всё, как есть: что на витрине, то и в магазине!
А зал был полон света. Белых потолочных ламп и одухотворённых лиц… Нет:
А зал, меж тем, был полон света — как зарница!
И потолочных ламп, и одухотворенья лиц.
А я всё ждал — когда же дверь та отворится,
И явится Она — Любви что двери распахнула без границ!
И Та, Которую я жаждал видеть, возникла, наконец, в дверях, с порога с улыбкой кивая всем, всем, всем, шальным ветерком пронеслась в раздевалку.
— Сегодня мы начнём изучение танго. — Выдержав секундную паузу, Артём воздел голову кверху: — Танго…
Танго! Смокинги, бабочки, белоснежные воротнички! Страусовые перья в диадемах ярких дамочек. Лорды с «Титаника» и опухшие нэпманы, серебряный век и великая депрессия…
— Танго — это агрессия. Партнёр наступает, партнёрша не сдаётся…
И фикусы в кадках, и чёрно-белый кафель наискосок…
— Вот на этом плакате — посмотрите, — вот это классическая рамка танго: руки и плечи находятся в одной плоскости. Левая рука партнёра и правая партнёрши — полусогнуты. Ладонь партнёра замыкает ладонь партнёрши в вот такой — видите? — замочек. Правая рука партнёра лежит чуть ниже лопатки… Да, вот так, только не клешнёй — пальчики соберите, и ладонь — ладонь! — полувыгнута. Партнёрша же, по сути, касается лишь большим, согнутым пальцем вот здесь — чуточку ниже предплечья партнёра… Плечи ровные.
А ведь танго — это ещё и Эрнесто Че Гевара, в стоптанных своих туфлях танцующий так, что все сеньориты, забыв своих напомаженных мачо, готовы были сдаться будущему «революсионарио» без боя.
— Теперь шаги. Во-первых: в танго — всегда! — ноги чуть согнуты в коленях. Вот, как будто вам по мешку с цементом положили на плечи, и вы с ним поднимаетесь по лестнице… Да — в нашу студию!
Вот тебе на: агрессия — и на полусогнутых!
— Стопы — почти как шестая позиция, только обе чуть повёрнуты влево. Так, что носки партнёра и партнёрши, если приставить вплотную, должны войти друг в друга. Как пазлы! Но шагаем мы прямо. С левой ноги партнёр идёт вперёд, партнёрша, соответственно, ступает назад. Счёт танго — четыре. Быстро, быстро, быстро, медленно: куик, куик, куик, слоу!
Танго! Это и Аргентина — родина этого танца, и товарища Че, в которой — спасибо морю! — побывал и я.
— И вот основные шаги: начинаем с левой — показываю мужскую партию! — вперёд,
правая — вперёд, левая, и здесь — с правой, — шаг в сторону…
Буэнос-Айрес мне несколько лет потом снился!..
— Дальше — те же четыре шага, только назад: теперь наступает партнёрша. Давайте попробуем, пока без музыки. В пары, сразу, встаём!
Прошагали легко. С неким даже куражным вызовом. В моей голове некстати, само собой ожило:
«Сын поварихи и лекальщика,
Я в детстве был примерным мальчиком,
Хорошим сыном и отличником
Гордилась дружная семья».
— Куик- куик- куик, сло-оу!.. — Куик- куик-куик, сло-оу!
«Но мне непьющему тогда ещё
Попались скверные товарищи…»
— Хорошо! Давайте теперь попробуем под музыку. И помните простое и непреложное правило — я вам о нём уже говорил: если вы поставили одну ногу, то следующий шаг будет с другой. Итак, под музыку!..
Я шёл теми же шагами, что проходил и товарищ Че!
«Верной дорогой идёте, товарищи!»
* * *
А про скверных товарищей, что с пути сбивали… «Седой всё!» — так я себе полжизни оправдывался.
Да, было дело — в нашем с ним общем рейсе, с которого дружба-то и повелась. На правах старшего и опытного товарища (вся их ходившая вместе из рейса в рейс банда прониклась ко мне симпатией и участием) обучал он меня вязанию мочалки (настоящему матросу — как без того?), изготовлению рыбных чучел, самодельных шлёпанцев из транспортёрной ленты, карточной игре в «тысячу» и многим прочим умениям. Но не было тогда во мне достаточного терпения — торопыжничал я во всем. Короб бы в трюме с размаху швырнуть — да поразудалей! Топором бы рубануть — да с плеча!..
— Подожди, подожди — дай-ка я сам! — отнимал у меня путаную вязь мочалки Витя. — Так!.. Та-ак!.. Нет — не распутать: обрезай до этого места и вяжи отсюда заново!
«Тысяча» тоже не пошла:
— Блин! — перебирая мои карты, уже нервничал Седой. — Лёха, ещё чуть-чуть, и я, кажется, сам с тобой играть разучусь!
С чучелом тоже вышла неудача. Грозный, туполобый пиногор был с грехом пополам выпотрошен — слава Богу! Теперь надо было сходить к врачу, взять у него медицинскую перчатку, надуть её внутри рыбины через трубку авторучки, завязать, а уж потом зашить брюхо, и подвесить на сквозняк — пусть высыхает!
Перечислять действия устанешь!
Понятное дело, не стал я озадачиваться по полной. Перчатку заменил презервативом (пачку их возил я, романтичный, по всему свету — в полной готовности к экзотическим его случайностям; сознаёмся — лишь в этот самый раз однажды они и пригодились). Ручку тоже развинчивать да прилаживать кропотливо не стал: налил противозачаточное водой, перехватил ниткой по скорому, всунул в рыбину, зашил, поставил на трубы в транспортёрной галерее — там всегда рыбу сушили.
Надёжно презерватив от рождения шедевра предохранил — развязался! Наверное, почти сразу. Вода вылилась, чучело перекосилось, скособочилось — мягко говоря! — до безобразия: без слёз не взглянешь! Скрючилось, чуть не в винтовую.
— Ты знаешь, это — как кружок «Неумелые руки!» — крякал Седой в кругу товарищей.
Но венцом моих творений явились, конечно, шлёпанцы «морские»!
— Это тебе надо из ленты транспортёрной — жёсткой — резать. В мукомолке, я видел, кусок оранжевой такой, как на транспортёре, лежит. Сходи — отрежь!
Сейчас! Стал бы я в мукомолку переться да из жёсткой такой ленты стельки мучиться — нарезать: у меня в трюмном тамбуре кусок серо-зелёной ленты — в полосочку! — валялся: мягенький!
Отрезал — по ступне, и, не мудрствуя лукаво, засобачил, не примеряясь, три дырки в треугольном порядке: центральную — на самом краю стельки. Продел, как Витя учил, тонкую, через них, верёвочку — в белый отрезок трубки от электрокабеля, связал — заплёл: кури взатяжку, «Salamander»!
Шлёпанцы вышли на славу! Мало того, что при ходьбе они гнулись, отвисая в шаге до самой палубы, но и все, аккурат, пальцы выходили строго за край подошвы: центральную дырку, у большого пальца, надо же было глубже делать — по месту примеряя.
Обновку оценили все.
— Слушай, ты мне одолжишь свои тапки на заход сейчас — в Аллапуловку! — хохмил ещё один наш Дружок (так его и кликали). — Пойду — когти об асфальт поточу!
Мы как раз заходили на рейд шотландского местечка Аллапул… Спасибо Судьбе, случаю и капитану Андрису Валерьевичу — я увидел кусочек Шотландии, устремлённый в небо шпилями соборов Инвернесс, с башнями замков на зеленеющем валу; озеро Лохнесс и Несси — в лужице у отеля, и изумрудно зеленеющие чертополохом, в ярких розовых крапинах, горные склоны!
Никогда не забыть!
А в катакомбах трюма и рыбцеха другое было. У дружной нашей, многими рейсами спаянной бригады, в которую принят был и я великодушно, раз в две недели, — как только бражка успевала отбродить, — выгонялась самогонка. Моторист Дружок, где-то в недрах машинного отделения, продукт и перегонял. И тогда уж была «свадьба» — всеобщая бригадная попойка. Я, хоть и зазывали товарищи хлебосольно, мероприятие на первых порах игнорировал. Хоть и дико было трезвым взглядом на пьяных сотоварищей наблюдать: то Дружок не по делу на меня «бычил», а то…
— Ну, ты же видишь — мы не успеваем! — Это раскачивающийся на упаковке Седой доходчиво объяснял, почему они не пакуют, как положено, идущие мне в трюм короба.
Похмелились уже — в начале вахты. Крепко! Так, что «поплыли».
Очень мне от такого объяснения полегчало, тем более что короба вскоре стали приходить всё с одной завязкой вместо двух, потом короб-другой являлся вообще не завязанным… А потом уж без завязок пошёл весь поток.
Картонные короба, не доезжая до меня, рассыпались на транспортёре, и ледяные брикеты выскакивали из них, летели, как снаряды, с грохотом ударяясь о палубу.
Через полчаса трюм походил на Куликово поле после битвы.
— Витя! Вы будете работать или нет?! Короба бьются!
— А ты возьми — вот! — проволоку и в трюме перевязывай!
— Витя, блин!..
— Ты, — безуспешно фокусировал невидящий взор друг, — можешь на нас жаловаться — хоть в ООН!
Как-то я доработал эту смену?! Благо, морозили мы не так много.
— Восемнадцать тонн, говоришь? — чесал подбородок Витя на другой день. — Да ладно — выгрузим как-нибудь!..
Переживал он за работу-то!..
Через две недели, как только пошла оживлённая возня после очередной вахты, я уже сидел в «дежурной» каюте Вити: пусть мне будет хуже!
Как мне было плохо на следующей вахте!.. Здоровый, привыкший к физическим нагрузкам спорта и работы организм не мог мириться с инородной гадостью:
— Тихо — не спеши! — как мог, регулировал скорость работы Витя, — Лёхе плохо!..
Дружок же бегал за сладеньким некрепким чаем: «Вот, попей — полегчает!»
И я сидел у трюмного лаза зелёный-зелёный… Но короба шли в трюм аккуратно упакованными — на две завязки.
До конца рейса я уж от коллектива не отрывался.
Приобретённые навыки я с лихвой приумножил и закалил — до недюжинного умения — в лихие девяностые: на их пороге тот рейс и случился. Когда порой не грех было выпить — грех было не выпить: чтобы не видеть — как в «Вий»! — той дьявольской
свистопляски мрази и нечисти, что творилась вокруг…
А уж больше дюжины лет спустя, обозрев каменную мозаику, что выкладывал я на заборе у тогдашних заказчиков Ланских (такую, что и проезжавшие машины сигналили, и люди, с расспросами да с комментариями под руку, останавливались), Витя в сердцах признался:
— Никогда бы я не подумал, что ты можешь такое делать!
Эх, дружище! Ладно — за всю твою науку тебе прощается, что меня не знал… Но как ты, гуру, в меня не верил?!.
Тем же вечером, выпив, как положено (а может — и сверх того), пива, Витя позвонил мне:
— А знаешь, я бы тоже так мог сделать!
Вот как та мозаика по душе пришлась!
— Да конечно, Вить! Если хочешь — я тебя научу!
* * *
— Алло!.. Привет, ещё раз. Чего-то ты и не попрощался — следом за партнёршей своей убежал… Это она была?.. Да, ну и нашёл ты себе — кикимору!.. Но она хоть в танцах соображает чуть. Ты за ней тянешься… А так, в общем — стадо! Слушай, а вот этот высокий, кучерявый — это кто?.. На педика малость смахивает… А это чё за мужик, в очках, толстый такой, что под конец пришёл?.. Детофил какой-то!
Вычислила. Рассортировала. Определила!
* * *
«Кикимору»?!
Гаврила был прилежный ученик на том паркете:
«Шагнул с одной ноги — шагай теперь с другой!»
Моя партнёрша — лучшая на свете!
И красоты её не видит лишь слепой!
* * *
Группа была небольшая. «Камерная», как выразилась, убеждая Любу в ней и остаться, маэстро Татьяна.
— А что такое — камерная? — не постеснялся по серости своей спросить я у Любы.
— То есть, небольшая — своя, можно сказать.
Две девчушки — подружки, в которых безошибочно угадывались студентки первокурсницы. Но точно из глубинки — одна, посещавшая занятия через раз, также через раз и здоровалась; другая — в очках, серьёзная в отношении занятий, вообще воспринимала приветствие как незаконное вторжение в частную её жизнь. Поэтому и танцевала либо со своей подругой, либо, в отсутствие той, одна. Была экстравагантная Екатерина — девушка лет двадцати пяти, ходившая в мужской шляпе. Тоже бывший преподаватель русского и литературы (хотя, сколько там она успела поработать?), ныне она продвигала «железных дровосеков» — мобильные терминалы. За некой внешней вычурностью Екатерина была приветлива и открыта к общению.
— Такие все счастливые! — смеялась она, выходя на лестницу после второго занятия.
Ещё бы — четыре шага ча-ча-ча тогда освоили: «Мы сделали это!» Хотя — перед следующим же занятием я подошёл к ней, пришедшей также пораньше, — пусть покажет ещё раз неисповедимое мне, убогому, «шоссе».
— …И вот здесь мы крутим восьмёрочку. Это вот так — работают вместе бёдра, живот, ну и попа, конечно. Мы с моим молодым человеком всё воскресенье дома тренировались — у меня до сих пор пресс болит.
Молодой её человек появился на занятиях через пару недель. Самодостаточный и самоуверенный юноша — «морено», сказали бы испанцы, — смуглый, черноволосый и черноглазый. Впрочем, амбиций молодости в нём было на обычные двадцать два. Нормальный паренёк. Маленький мачо.
Вторую пару составляли видная, светловолосая девушка — очень милая и простая, наших, верно, лет, и неприметный её спутник, лет на десять постарше. Без строевой выправки, с небольшими залысинами. Виделось сразу — очень добрый. Здесь он оказался явно волею своей партнёрши, за которой исправно тянулся, старательно вникая в процесс обучения. На первом же занятии (они появились в группе неделей позже нас) девушка в ходе разминки решительно сбросила свои туфли на высоком каблуке и продолжила занятие босиком.
Серьёзный, в общем, был у ребят настрой!
Самой солидной парой были представительный мужчина далеко за пятьдесят, всегда собранный, с удовольствием тянувший крепкую ладонь для рукопожатия, и черноглазая обаятельная женщина с красивой, очень женственной фигурой. Смуглянка. На первом же занятии ча-ча-ча они встали в правильную латинскую стойку.
— Видимо, они уже где-то занимались, — не без некоторой зависти оценила Люба.
— Но они тоже не муж и жена, — сообщила она как-то позже, — у неё муж и двое детей. Спрашиваю: «Как же ты везде успеваешь?» Смеётся: «Приходится — куда деваться?»
Хорошая у нас была группа! Без «понтов».
А приглянувшийся Алле Павел был приходящим. Он занимался с семичасовой группой, но, по особой к танцам любви (и по льготной, в этом случае, оплате), занимался, если время позволяло, и в нашей смене. Тем более, что его офис находился через дорогу. Как-то, слово за слово, узнав в досужем разговоре, что всю работу с камнем на Ушакова сделал я, он с искренним восхищением потряс мою руку:
— Когда ко мне польские партнёры приезжают, я их непременно мимо этого дома провожу: «Посмотрите, как у нас умеют делать!»
А мужик в очках — не такой уж, впрочем, и толстый, был тоже из соседней, семичасовой группы.
* * *
В субботу Люба заболела. Татьяна сообщила накануне:
— Она сегодня уже никакая — с трудом доработала.
— Так, а чего на больничный не идёт?
— А, видишь, ей нужно в поликлинику по месту жительства обращаться, а она же с Серёжей по части прописана. Такая же, как ты, птица — бесприютная.
Кирпич валился из рук, камень отказывался вставать красиво, мастерок тонул в жидко заведённом растворе — я должен был позвонить! Должен — и всё, даром что Сергей скорее всего дома.
Алло-у… Здравствуй, Лёша… Да нет — ко вторнику выздоровлю наверняка: не дождётесь!.. Ну ладно, Лёша — пока, а то, правда, так голова болит!
Когда возможно было мне бы
Забрать у Вас всю Вашу боль —
Часть долга я вернул бы Небу,
Тогда б на равных был с судьбой.
* * *
Во вторник опять была румба — для закрепления, должно быть. И была она — Любовь! А куда, с другой-то стороны, в румбе, да без неё? Правда, она опоздала…
Лёша же Добросовестный пришёл как обычно, за полчаса, и, дабы времени не терять, залебезил перед скучавшей Екатериной — ещё раз ему, заторможенному, «шоссе» с «восьмёрочкой» показать. После чего принялся чеканить их «на зеркало» —
нормальная практика занимающихся: не обращай внимания на сидящих — тебе надо, ты свои движения шлифуй.
Вот только в этот раз оказались одни залётные — в другие дни недели они занимались. Молодой человек со своей, по слащавым, на публику, поцелуйчикам надо было понимать, подругой. Супругой, будучи лет на двадцать кавалера старше, матрона быть вряд ли могла. Состоятельная, виделось, тётя. А что — очень даже по-латински! Молодой человек был высок и, надо отдать должное, мускулист. Закрепощёнными, впрочем, явно из спортзала, мышцами. С холёной бородкой эспаньолкой и надменной усмешкой самодовольного самца. В сущности — истый мачо. Он-то и вякнул, не смущаясь тем, что я всё прекрасно слышу:
— Хорошо, солнышко, в субботу тогда, раз мы не сможем поехать, схожу, тогда уж, на стандарт. Разомнусь чуть. А то скоро уже вот как тот, — он кивнул головой на меня, — Буратино буду танцевать.
«Буратино»?! Ладно, пропустим мимо ушей — не место и не повод для разборок: по сути-то он прав. По другому, вчистую надо его «сделать», а для того — шагай, давай! Любаша тоже, когда по ходу занятия мы в две шеренги стали друг против друга («партнёры на партнёрш»), вдруг резко сменила улыбку на прекрасном, выразительном своём лице на такую, сказал бы Слава, «бычину»: это мачо с надменно холёной усмешкой мерил её оценивающим взглядом.
Подавшись вперёд, я грозно прицелился в посягателя: я тебя за неё порву — de seguro*! Это моя партнёрша! Это моя — по румбе! — женщина.
Всё по понятиям! Чести, имелось в виду.
Я бережно вёл в танце Любовь. Передоверив ей улавливать сложный румбы ритм. Любе он тоже давался непросто.
— Сейчас… Не могу понять… Ага — пошли!
С Вами — хоть на край света!
А когда после занятий мы вышли на залитую вечерним светом улицу, я, вместо собиравшегося дождя, занудил о том, что партнёр вот у Любы никудышный — ритма различить не может, двигается, как Буратино.
— А я очень счастлива, что у меня такой замечательный партнёр! — впервые взяв меня под руку, весело воскликнула Люба.
Тепло её руки, что чувствовал я даже сквозь одежды, блаженным счастьем разлилось внутри.
— Тебя не шокирует поток Гаврилиных эсэмэс?
— Не дождётся, — не стала скрывать улыбки она, и повела своей и моей рукой, — Нет, я, конечно, не такая: «Мяу- мяу, где моё эсэмэс?» — но… Не дождётся!
* * *
Утром в автобусе я учил испанский. Записывал в походный дневник все три спряжения — глаголы склонял. Я вообще любил писать в пригородных автобусах — хлебом не корми! Когда есть добрый час для доброй работы. Добрая половина книжицы моей была написана в автобусах — на колене, натурально. Мир, прекрасно обозреваемый из окна, проносится мимо, гул мотора перекрывает болтовню пассажиров, мысль летит так чётко и стремительно, что к конечной остановке новый рассказ — вчерне — будет рождён. Время в дороге ни от работы, ни от семьи не урывается, а даже, получается, наоборот — расходуется с толком: совершенно творческая атмосфера, потому как — полная гармония! И день задастся наверняка: в самом его начале такое дело сделано!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Наверняка (исп.)
А самым «сенокосным» в этом смысле выдался двухтысячный год — год рождения моего
сына. Просто работы на загородном направлении много было…
Но нынче Гаврила был деловым: каждую минуту — с конкретной пользой. Для той же самой мечты.
Сегодня спрягался — сплошь и поперёк — глагол «dejar», имевший среди своих значений и «оставлять».
О, первое испанское спряжение (как, впрочем, и второе, и третье), ты — песня!
— Йо — дехо! Ту — дехас! Эль — деха, элья — деха, устед — деха!.. Носотрос — дехамос! Босотрос — дехайс! Эльос, эльяс, устедес — дехан!
Ведь проще пареной репы!
Всё в мачо пыжился Гаврила.
Глагол «dejar» он постигая,
Решил: «Ту, что вдохнула жизни силы,
По жизни не оставлю никогда я».
Серьёзное заявление — на всю-то оставшуюся… «Аsta la
muerte»*, проще говоря.
* * *
Мангал уже вышел на трубу. Высокую — на два с половиной метра мы с Александром размахнулись. Саня бы рад был и четырёхметровую забабахать — Гаврилы ж руками, — да на моё счастье кирпича не хватило. И так, по отношению к мангалу, труба была громоздкой, неприкаянной в смысле художественном. Но Гаврила заранее сей момент уж обмозговал: дурак дураком, а что-нибудь умное как придумает! Это же он смекнул треугольные обрезки кирпича — отходы! — из ванны станка вынимая, сложить в круг — получился цветочек. Правда, ровный по краям- «лепесткам», отчего несколько лубочный. Может, «великие» Костик с Олежкой такой находкой и возгордились бы, но нашего каменщика от сохи цветок удовлетворил не вполне. А ежели лепестки разными по длине сделать? Гонимый своей идеей, спешил, нарезал кирпичные кусочки, сложил, глянул, задохнулся от восторга: Антонио Гауди бы «заценил»! Обратил, конечно, взор кверху: «Спасибо, Небо, что не оставляешь!»
Теперь и надо-то было — вырезать по трём сторонам трубы прямоугольные ниши, цветочки аленькие туда умостить и галькой морской по краям облагородить, — всё! Дёшево и сердито. И тяжёлая труба, бездельная, между тем и до того, от эстетиче-
ской нагрузки, гранями своими превращалась в плоскость для чудного, притягивающего взор панно: меняем минусы на плюсы!
«Ура, ура!» — сказала бы тут Люба.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*До самой смерти (исп.)
Гаврила был каменотёсом,
В булыжнике он ведал толк.
И груду камня очень просто
Гаврила превращал в цветок.
День летел за работой. Вернее, работа поглотила, растворила в себе минуты и часы,
дачный посёлок и солнце осеннего дня — сейчас вокруг была только она!..
Ведь камень, что веками дышит,
Мгновенья ждёт, чтоб лечь на руки мастеров.
В пруду, на мостовой, в заборе, в нише,
Однажды встав, он вечность радовать готов!
Получалось — жуть! Скулы сводило. Труба на глазах превращалась в неотъемлемую деталь кирпичного ансамбля. Ключевую. Центральную. Из-за забора видную!
В том, что имеет камень душу,
Гаврила наш не сомневался.
И потому с душой, получше,
Уважить камень и людей старался.
Уж Светлану-то он сразит в самое сердце — это точно! За эти цветочки, что ни поливать, ни пропалывать, ни на зиму пересаживать не надо, она ему все грехи спишет.
Хотя, какие там грехи — муки творчества в «протяжке» сроков виноваты, — теперь-то очевидно всем!
Строго говоря, каменные цветы я уже высаживал. Там, на Ушакова. На «палубе». Апрельской субботой, наводя порядок в каменных своих развалах, решил скучковать треугольные обрезки-обломки. Те были очень ценны в укладке: краеугольные пустоты, образующиеся между большими камнями сплошь и рядом образовывали треугольники. И правильные, и неправильные: так что всё в дело пойдёт. И вот, экономя площадь
старого верного моего здесь друга — «низкорослого», но крепконогого козлика (я сколотил деревянный два года назад, с его высоты докладывая верха столбов), сгрудил треугольные камни в круг. И вдруг получился цветок — отчётливый, красивый, живой. Почерепив неделю, в следующую субботу я насмелился втихаря вкрапить цветок на «палубу». В тот день как раз приехали дизайнеры по мебели. И дискуссия с хозяйской стороной затеялась отчего-то во дворе — в двух шагах от меня, партизански своё «ноу-хау» внедрявшего.
Нашли место!
Я ещё, помнится, стушевался из-за куртки своей драной — мелкие осколки, вылетающие из-под фреза станка, неизменно целились в правый бок. Попытался даже у Гриши испроситься в подвале на время исчезнуть — пересидеть. На что он вполголоса заявил:
— А чего ты — тебе стесняться нечего! Это вот пускай они, — он указал на группу прибывших дизайнеров, — твоей работы шугаются.
Симпатичная женщина в туго обтянутых джинсах, стояла в метре от меня, ползающего на
коленях, и передислоцироваться никак не желала — словно её приклеили.
Коленопреклонённый пред Её Величеством Работой, голову я всё же время от времени
поднимал, открыто созерцая прелесть дизайнерских форм — исключительно ради внутреннего протеста.
Цветок получился уж очень натуральным — не по-масонски. «Масонский знак должен
быть виден, но не должен сразу бросаться в глаза», — так Татьяна учила.
— Да нет, — пожал плечами хозяин, — глаз он не режет — оставляем.
Вольный стрелок Миша истолковал порыв вольного каменщика по-своему.
— А как он называется? Наверное, Эрос? Нет, скажем прямо — похоть!
По долгу службы цепко приметил мой прицел на изящные линии.
— Я ей сказал, — не остался в стороне и Гриша, — ты, Анжелика, в следующий раз в юбке макси приходи — нечего лучших наших мастеров смущать, от работы отвлекать.
— Ты чё, правда что ли, ей так сказал?
— А что — пусть знает: здесь настоящие мужики работают!
Цветов каменных на ушаковской палубе я высадил аж семь штук — целый букет. Хотел даже подарить их хозяйке, но так отчего-то и не осуществил затею.
Отчего?
Недосуг, знать, было.
А три розы, обрамлённые морской галькой, ало пылали в мягких бликах осеннего заката.
— Какая ещё любовь? — пеняла мне хозяйка мангала. — Ты — семейный человек!
— Несчастная, ясное дело — какая другая у меня-то может быть?
Цокнув языком и головой покачав, пошла Светлана с Богом — цветы на зиму укрывать, оставив счастливого блаженного со своей несчастной любовью.
Впрочем, «Каталонскую» (поберёг всё же Гаврила хозяев язык) арку она оценила вполне: «Я ещё такого ни у кого не видела».
А прекрасный чистый день рвал душу…
Гаврилы голова кружится,
Когда в синь неба задерёт:
Любовь там реет гордой птицей.
Благословен её полёт!
Задирать голову вверх теперь приходилось — предстояло гнать трубу. И чем-то её высокохудожественно завершать: венец — делу конец!
Хозяева сначала замахнулись на три– четыре метра высоты, но, к счастью моему, кирпичей оставалось только на два. А Гаврила меж тем уже теял в сумасбродной своей головушке то, что наверняка должно было сразить хозяйку в самое сердце, —
а тогда и мелкие грехи-огрехи простятся. У Гауди, опять же, это подсмотрел, самородок! Но до поры молчал разумно умелец —пусть бабахнет пробкой шампанского.
* * *
— Ну, рассказывай, отец родной, что у тебя там опять стряслось?
Алла разогревала в кастрюльке на газовой плите красное, мною принесённое вино с дольками лимона. Шашлык, пожаренный меж кирпичей во дворе, остывал в широком блюде.
Мягко спускавшиеся сумерки заканчивали дачное воскресенье, навевая тихую, неизбывную грусть о неизбежно грядущем понедельнике.
— Алла, беда! Любовь у меня приключилась!
Честно отработав день у Светланы с Александром и добросовестно выждав, когда хозяева соберутся и уедут домой, я следом выдвинулся к Алле — инкогнито она приглашала. На вполне конкретный разговор.
— Ха, любовь! Вить, ты слышишь? Я валяюсь!
Витя отсутствующе хмыкнул. Был он сейчас очень далеко и слишком выше этой суеты. Любовь — не любовь, пришла — приключилась, ушла — исчезла… Баловство всё это и детство! Вот он вчера вечером уговорил, по большой любви, две большие баклажки с пивом, закрепив чувство ещё и несколькими рюмками водки. Вот это серьёзно. И до чего ему было сейчас? Скорее бы «Лёлика» домой отвезти да, ставя у дома микроавтобус, по ходу дела «зацепить», опять же, «полторашечку» холодного, шипящего, сердцу милого пивка — вот это да!
— Так, а она кто? Подруга, ты говоришь, твоей Татьяны?
— Да, работают они вместе, знакомы уж уйму лет — я тогда у Татьяны на горизонте и близко ещё не появился. Да и я Любашу знаю двенадцать лет… Думал, что знаю.
— Её, значит, Любой зовут?.. Любовь! — Алла помешивала свой глинтвейн. — Ну и что ты хочешь — опять всё сначала начать? Во второй раз?
— Да подожди, Алла, не про то разговор! Что я — сам не знаю, что Танюха — чистое золото, лучше её мне никого не найти…
— Правильно, кто же тебя, гонимого, ещё бы терпел столько лет!
— Но, понимаешь — снесло башню!..
— Слышь, Вить, а она у него разве была?
— Напрочь снесло. Ух!.. Чё скажешь-то?
— А что сказать — дурак ты, вот и всё. Но ты и сам, вижу, об этом знаешь… О-ой! — Алла протяжно вздохнула. — Тебе говори, не говори — ты же, дурачок, не слушаешь. И всё равно по-своему сделаешь. А где вы занимаетесь?
— В «Вестере» бывшем, на Ленинском — четвёртый этаж.
— Так это рядом с нами, да? По вторникам и четвергам, говоришь? В шесть?
Дачный глинтвейн получился на диво. Даром, что шашлык совсем остыл.
— Твоя Татьяна, — Алла тщательно подбирала слова, — неумная женщина — вот что я скажу. Отправила бы я Старого на танцы — ха! Я бы ему такие танцы устроила! Да, Старый, чего молчишь?
Витя с достоинством отвёл взор в проём окна с серыми силуэтами дачных крыш и темнеющим уже небом, устремившись, наверное, в холостяцкую свою, морскую молодость. Залихватскую, бесшабашную, забубённую. Где среди жгучих кабацких плясок было и топтанье медленного танца, в котором партнёрши, за мужской его неотразимостью, были на выбор, а счёт лишь один: «Раз — и в койку!»
* * *
Сегодня Нахимова за обедом подходит. Садится напротив, в глаза смотрит, как собачонка, молчит. «Случилось что, Люба?» — «Да нет… Ты на меня ни за что не обижаешься?» — «Я -то нет. Что-то не так?.. Алексей чего-то не то делает?.. Или как партнёр тебя не устраивает — тебе что-то не нравится?» — «Нет, что ты — меня всё устраивает!.. Просто, я не думала, что Алексей такой обаятельный — я его совсем другим представляла». Сидит. «Ну, поговори со мной!» — «Так всё, Нахимова, давай — шуруй, мне в десятом сейчас урок вести».
* * *
— Румба!.. Следующий в латинской программе танец за ча-ча-ча.
В долгожданный вторник было всё тем чудесным образом, коим уже повелось. Работа в радость, в ожидании двух часов дня. Шустрые, до половины третьего, сборы инструмента в выделенный мне хозяевами предбанник, и — избушку на клюшку, дачный участок на замок: Лёха поехал на танцпол. Святое! Желательно было успеть домой в четыре. Тогда можно совершенно не спеша принять душ, с душою побриться — тщательно и осторожно, и, пока сохнут волосы, душевно поговорить с Татьяной о сущем.
— Насчёт денег сильно не переживай. Если через неделю принесёшь — дотянем. Нам завтра–послезавтра зарплату на карточку переведут. Заканчивай, только, давай там поскорей — надо уже морские документы делать.
Без пятнадцати пять можно уже было начинать обстоятельно одеваться, освежаясь, по ходу дела, дезодорантом — к живой радости Семёна: «Мама, а он и там пшикнул!» — «Алексей, ты куда собираешься — точно на танцы?» А в десять, самое крайнее — пятнадцать минут шестого пора было, благодарно кивнув на пожелание Татьяны («Удачи!»), выходить из дому. Минуя лужи, пройти наискосок два немноголюдных двора — сквозь огороженную сеткой площадку для баскетбола и детскую площадку.
Внимательно глядя по обе стороны, прошмыгнуть по пешеходному переходу к Рыбной деревне. И там, приостановившись, потрепать по затылку медную, приносящую удачу, обезьянку, сидящую у пожилого морехода на коленях, коснуться в рукопожатии и его бронзовой руки: «Спасибо, мореход!» За что? А за всё — за танцпол, за Любу, за вечер этот новый. А дальше, заручившись такой поддержкой, смело бежать через старинный мостик, приближаясь к самому опасному участку пути — к проспекту с шестью полосами двустороннего движения. Проспекту часа пик. И когда, подгадывая интервалы между машинами в первой его половине, я спокойно переходил вторую — светофор в сотне метров удерживал шальной поток, — становилось совершенно ясно: Небо меня не оставляет. На бегу и всуе благодарил я: «Спасибо, Господи, спасибо!»
И это было уже время счастья. Как и предстоящие два часа. Счастья, которого не мог омрачить даже Олежка Длинный, попадавшийся часто навстречу на том самом мостике — с работы шёл (тогда, синхронно отворачиваясь в стороны, мы корчили такие брезгливые гримасы — обезьянка бы подивилась). Нет, всей этой гадливой, вязкой серости никогда не коснуться, не вторгнуться, не посягнуть на этот чистый — как нетронутый искрящийся снег, как сверкающий солнцем лёд на неприступной горной вершине! — истинный мир. Она слишком пред ним ничтожна!..
— Румба — помним мы по самому нашему первому занятию — это медленный танец. Румба — это любовь и ревность. Здесь очень непросто уловить ритм — в этом сложность румбы. Начинаем с основного шага — то же самое, что и в ча-ча-ча, только без
промежуточного шага на «шоссе». Давайте попробуем, а потом изучим «алеману» с поворотом.
Шаги, за выбросом «шоссейного», дались мне сразу — точно так танцевали медленный танец «продвинутого» образца на дискотеках моей молодости. Только что без выпендрёжных коленей назад. А ритм я ловил наугад, не особо на нём заморачиваясь, — рядом была Люба, внимательно вслушивающаяся в мотив: «Сейчас… Ага — пошли!» А в чуть грустной, казалось мне, музыке были и узкие латинские улочки, извилистые каменные мостовые, и деревянные ставни окон, и тяжёлый, изо дня в день, труд за кусок хлеба для своей семьи, и унылая безнадёга всей жизни. Но пока видишь прекрасные, устремлённые прямо в твои, глаза — ты всё равно счастлив; пока держишь гибкий стан в своих объятиях — жизнь прекрасна, и стоит жить!.. И фиолетовая ночь надо всем — до самого утра… В общем, не так сложно мне было румбу понять — я из таких же кварталов! Вот только ча-ча-ча мне нравилось куда больше — искромётней и веселей.
Понятное дело, флиртовать — это не любить по-настоящему. До остановки проводил, на автобус посадил — так можно кабальерствовать!
— …Хочешь, зайдём — кофе выпьем?
— Ну, это чуть раньше надо было предлагать. Теперь меня дома ждут: Серёжа позвонил, они картофельное пюре для меня приготовили. Со сливочным маслом — ещё горячее!
Серёга готовил хорошо — Татьяна про то рассказывала: «Он ещё и на стол так накроет — как не каждая женщина сможет!»
— А ты строганину любишь? — Я вглядывался в номера подъезжающих с моста автобусов.
— Конечно! Когда я училась, одно время нам ребята знакомые приносили омуля — из него они строганину делали — и оленину…
— Омуль — вещь!
— Так мы с девчонками смеялись: «Что сегодня будем есть? Омуленину?»
— А ты никогда не думала домой вернуться?
— В Коряжму? Нет. В этом году я там, в отпуске, поняла отчётливо: меня здесь не будет. Нет, конечно, дома я такая для всех звезда!.. Но здесь возможности совсем другие. На уровень!
— Прямо скажем, — согласно кивнул я, — безграничные… Твой, Любаша, автобус.
Ух, развелось туполобых — один за одним едут!
Поцелуй в краешек губ с Любовью был на сей раз с привкусом ревности. К Серёже Заботливому, с картошкой его горяченькой, к ребятам из юности её, с омулем да олениной.
И разве был я в той ревности виноват — как в румбе учили!
* * *
Гаврила счастьем нынче был надутый!
Хоть и не жадничал тем, тому не понукал:
Сполна хватало! Целые прекрасные минуты
Её ладонь своею согревал…
* * *
— А Люба что заканчивала?
— Университет наш. Заочно. А до этого два курса училась в пединституте — там, у себя, в Архангельске. Ну вот, с Серёжей сюда приехала.
— А он служил тут?
— В морфлоте. Понравилось — остался на сверхсрочную. Так он сам к нам в школу сначала пришёл — всё разузнал. В форме, ладный, выправка военная. Помню, мы ещё смеялись: «Наконец-то настоящие мужчины к нам в школу пожаловали!» Думаю, Люба тоже на эту форму клюнула — военный моряк! Тем более, у них там.
— Так, получается, Люба с северов?
— А ты не знал? По ней разве не видно? Да она же сама тебе фотографии показывала. И рассказывала, когда мы у них в гостях были — не помнишь?
— Да чего-то мимо ушей, наверное, пропустил. Получается, в ней много кровей намешано?
— Ну, как она сама говорит: «Я маленькая чукотская девочка». Шутит. Сам у неё спроси…
* * *
В среду, когда я, только что успев переодеться, чин-чинарём возился уже с кирпичами, подъехал Саша. Привёз арматуру — для перекрытия мангала (сэкономили мы на уголках стальных). На эти прогибающеся стальные прутки, помимо двух рядов кирпичей перекрытия, должна была опереться тремя четвертями своей тяжести массивная труба с оголовком.
Мама Антонио Гауди, дорогая!
За арматуру же предполагалось зацепиться хлипкими своими проволочками и арке
Каталонской, на честном Гаврилы слове держащейся, которая, вообще-то, сама должна была нести трубы нагрузку.
Покажи, называется, ты Гавриле Барселоны собор — хотя бы и на картинке!
Хоть и неведомо было, каким образом что обо что обопрётся, но не дрожала верная рука: «Всё сойдётся красиво! Дуракам везёт».
Гаврила в счастье был везучим,
Он выше счастия не знал,
Чем ясно видеть, как сквозь тучи
Тот лучик золотой сиял!
А с другой стороны — гибкая арматура, в отличие от жёсткого уголка, сможет «дышать» при нагреве, выгибаться, пружинить и, тем самым, не разрушать кладку — работать на нагрев и остывание.
С умом ещё и получится!
Выдержит этот мангал и жар, и стужу, устоит и от штормовой с моря непогоды, переживёт ветра, ливни, снегопады и непутёвого своего создателя.
Гаврила шторма не боялся,
А в штиль лазоревых морей
Он с упоением купался
В безбрежии любви своей.
— Слушай, а ты одну арматуру-то свободной оставишь?
— Парочку — как договаривались. Разновысоких: одну для крючка — ведро с ухой подвешивать, а вторую уже в начале дымохода — для горячего копчения.
Сглотнув слюну, Александр удовлетворённо кивнул.
— Ладно, тогда поеду я — дела, по рейсу, всё морские. Да и лига чемпионов сегодня. Смотреть будешь?
— А то! «Рубин» же наш с «Барселоной» рубиться будет!
Езжай, конечно, Саша. «Ехай»! Без тебя всяк спокойнее.
В Гавриле чувство трепетало,
И без конца твердил он вновь,
С начала — с самого начала:
«Любовь!.. Любовь!.. Любовь!.. Любовь!»
Ох уж эти копчения! На легендарном, для нас со Славой, мангале «Мальборк», что калымили мы, в отрыве от Ушаковки, по выходным, а я ещё и по ночам (случалось!), дело было. Уже высился он могуче на трёх своих нижних арках, уже щурился сурово боковой своей бойницей (отверстие для вертела надо было под готику стилизовать), уже пленял взоры зевак («Ну и нагородил ты здесь, Лёха!»), когда притащил хозяин воскресным днём дружбана своего «лепшего»: «Зацени!»
— Вот это полочки для барбекю и шашлыков, вот здесь — видишь? — трещотки для вертела — поросёнка жарить будем! Здесь, в трубе, крюк для цепочки — для ухи, и съёмные крючки будут — для горячего копчения.
Хозяйский друг, насупившись, глядел исподлобья: нравилось ему.
— А холодного копчения, что ли, не будет? — проронил, наконец, он. — Я вчера леща закоптил — такая вещь!
— Лёша, а у нас что — холодного копчения не предусмотрено? — вмиг озадачился тамошний Александр (тоже хозяина так звали). — А ещё мы сможем его сделать , а? Доплачу — само собой!
Он был деятельный живчик. И доверял мне целиком и полностью: «Я в своей жизни талантливее масона — ты же вольный каменщик! — не встречал». Не мог я ничего на это возразить: против правды не попрёшь!
Результатом такой вольницы стало то, что планируемое поначалу барбекю в итальянских, ХIХ века, мотивах вдруг обозначилось мангалом — замком тевтонских рыцарей Мальборк: неисповедимы пути Господни. Те, которыми Татьяна в этом замке не раз со своими школьниками бывала, откуда альбом «Мальборк» привезла, и коими додумалась мне в руки дать…
Четверть часа, никак не меньше, кумекали мы да «втыкались» с Александром Мальборгским, как теперь коптилку воткнуть. Чертили палкой на песке, замеряли шагами, прикидывали. Дружбан, сдвинув брови, стоял тут же, слушал внимательно, молчал тактично, внимал чутко незадачливому упущению нашему. «Устаканили»: здесь землю подкапываем, дымоход в земле прокладываем, тут фундамент пробиваем, а здесь кирпич — никуда не денешься! — выковыриваем. Помучится Лёха, конечно, но сделает — как же Саня будет без коптилки-то холодного копчения?! Смысл просто всей конструкции теряется напрочь, поблекнет без неё сооружение — как есть!
— Вот только, Саня, в земле канал для дыма у нас будет всего полтора метра — больше теперь уж не получится.
— А надо сколько?
— По уму, метра четыре.
— А у тебя в земле сколько идёт, — живо обернулся Саня к другу, — в коптилке твоей?
— А она у меня электрическая. Чемоданчик такой — переносной.
Сволочью его только и назвать — а как ещё?
Но сделали мы коптилку холодную — хватило и полутора «земляных» метров. И теперь уж все было в полном ажуре: подземный ход холодного копчения теперь в мангале - замке имелся!
— Друзья говорят, — рассказывал после Саня, — мы к тебе приезжаем, как в музей. А
один, слышишь, дизайнер строительный: «А можно я буду говорить, что это наша фирма проектировала?»
Книжицу мою, по ходу дела подаренную, «заценил» аж с берегов Адриатики — в Хорватию с семьёй на отдых ездил: «Читаю, вот, сейчас на пляже — прикольно!.. Слушай, я-то понимаю — это душа твоя морская кричит! От матросского того бесправия, от
работы каторжной!»
Он был не дурак, этот Саня.
— Поэтому бросай ты это море — тебе надо со мной работать!»
Совсем не дурак был тот Саня! Хитрость уживалась с рубахой-парнем в нём самым причудливым и непостижимым образом. И душевно ли мне переживая, или, опять же, к себе перетягивая, про Ушакова Александр Мальборгский говорил не раз: «Ты что — собака на привязи? Раз не платят — да пошли ты их на …!»
Но этот смелый его замысел, который он тоже целиком и полностью доверял мне, я осуществить отчего-то никак не решался.
Не такой дурак!
* * *
А залучал меня на работу к себе он порой и так: «А у нас весна — лягушки по утрам квакаю-ют!»
Точно так же и Слава, через пару лет — из дома Вадима: «А у нас тут такая радуга!..»
И ведь ехал я, лопоухий!
* * *
В четверг в студию заявилась Алла. Не одна — с серьёзной своей подругой Ларисой. Лориком.
Серьёзно, получалось, всё уже было.
Лорик, кстати, тоже моей партнёршей по дансингу однажды была. Совсем недавно — в мае этого года, когда обмывали мы всей честной компанией установленную мной и Витей чугунную топку их с Аллой камина (Светлана Зоркая тоже была в числе приглашённых). Все уже разошлись — разбрелись, а мы всё выплясывали перед дачным домом, шевеля и толкая пластмассовый столик, с которого, по счастью, Алла уже всё убрала: «Арам-
зам-зам! Арам- зам- зам! Гули-гули, гули-гули, арам- зам-зам!» Пока таки его не завалили.
Я чуть запоздал. Не так, конечно, как Любаша, — она теперь опаздывала стабильно и всё больше. Когда я вбежал в зал, уже шла разминка. И Алла с Лориком, которых я впопыхах не сразу и заметил, кивали мне с боковых сидений. Своей милостью Артём всегда разрешал наблюдателям присутствовать на занятии. И то было честно и разумно. Люди ведь неспроста пришли посмотреть, а с задумкой, наверное, заниматься. Так пусть увидят всё, как есть: что на витрине, то и в магазине!
А зал был полон света. Белых потолочных ламп и одухотворённых лиц… Нет:
А зал, меж тем, был полон света — как зарница!
И потолочных ламп, и одухотворенья лиц.
А я всё ждал — когда же дверь та отворится,
И явится Она — Любви что двери распахнула без границ!
И Та, Которую я жаждал видеть, возникла, наконец, в дверях, с порога с улыбкой кивая всем, всем, всем, шальным ветерком пронеслась в раздевалку.
— Сегодня мы начнём изучение танго. — Выдержав секундную паузу, Артём воздел голову кверху: — Танго…
Танго! Смокинги, бабочки, белоснежные воротнички! Страусовые перья в диадемах ярких дамочек. Лорды с «Титаника» и опухшие нэпманы, серебряный век и великая депрессия…
— Танго — это агрессия. Партнёр наступает, партнёрша не сдаётся…
И фикусы в кадках, и чёрно-белый кафель наискосок…
— Вот на этом плакате — посмотрите, — вот это классическая рамка танго: руки и плечи находятся в одной плоскости. Левая рука партнёра и правая партнёрши — полусогнуты. Ладонь партнёра замыкает ладонь партнёрши в вот такой — видите? — замочек. Правая рука партнёра лежит чуть ниже лопатки… Да, вот так, только не клешнёй — пальчики соберите, и ладонь — ладонь! — полувыгнута. Партнёрша же, по сути, касается лишь большим, согнутым пальцем вот здесь — чуточку ниже предплечья партнёра… Плечи ровные.
А ведь танго — это ещё и Эрнесто Че Гевара, в стоптанных своих туфлях танцующий так, что все сеньориты, забыв своих напомаженных мачо, готовы были сдаться будущему «революсионарио» без боя.
— Теперь шаги. Во-первых: в танго — всегда! — ноги чуть согнуты в коленях. Вот, как будто вам по мешку с цементом положили на плечи, и вы с ним поднимаетесь по лестнице… Да — в нашу студию!
Вот тебе на: агрессия — и на полусогнутых!
— Стопы — почти как шестая позиция, только обе чуть повёрнуты влево. Так, что носки партнёра и партнёрши, если приставить вплотную, должны войти друг в друга. Как пазлы! Но шагаем мы прямо. С левой ноги партнёр идёт вперёд, партнёрша, соответственно, ступает назад. Счёт танго — четыре. Быстро, быстро, быстро, медленно: куик, куик, куик, слоу!
Танго! Это и Аргентина — родина этого танца, и товарища Че, в которой — спасибо морю! — побывал и я.
— И вот основные шаги: начинаем с левой — показываю мужскую партию! — вперёд,
правая — вперёд, левая, и здесь — с правой, — шаг в сторону…
Буэнос-Айрес мне несколько лет потом снился!..
— Дальше — те же четыре шага, только назад: теперь наступает партнёрша. Давайте попробуем, пока без музыки. В пары, сразу, встаём!
Прошагали легко. С неким даже куражным вызовом. В моей голове некстати, само собой ожило:
«Сын поварихи и лекальщика,
Я в детстве был примерным мальчиком,
Хорошим сыном и отличником
Гордилась дружная семья».
— Куик- куик- куик, сло-оу!.. — Куик- куик-куик, сло-оу!
«Но мне непьющему тогда ещё
Попались скверные товарищи…»
— Хорошо! Давайте теперь попробуем под музыку. И помните простое и непреложное правило — я вам о нём уже говорил: если вы поставили одну ногу, то следующий шаг будет с другой. Итак, под музыку!..
Я шёл теми же шагами, что проходил и товарищ Че!
«Верной дорогой идёте, товарищи!»
* * *
А про скверных товарищей, что с пути сбивали… «Седой всё!» — так я себе полжизни оправдывался.
Да, было дело — в нашем с ним общем рейсе, с которого дружба-то и повелась. На правах старшего и опытного товарища (вся их ходившая вместе из рейса в рейс банда прониклась ко мне симпатией и участием) обучал он меня вязанию мочалки (настоящему матросу — как без того?), изготовлению рыбных чучел, самодельных шлёпанцев из транспортёрной ленты, карточной игре в «тысячу» и многим прочим умениям. Но не было тогда во мне достаточного терпения — торопыжничал я во всем. Короб бы в трюме с размаху швырнуть — да поразудалей! Топором бы рубануть — да с плеча!..
— Подожди, подожди — дай-ка я сам! — отнимал у меня путаную вязь мочалки Витя. — Так!.. Та-ак!.. Нет — не распутать: обрезай до этого места и вяжи отсюда заново!
«Тысяча» тоже не пошла:
— Блин! — перебирая мои карты, уже нервничал Седой. — Лёха, ещё чуть-чуть, и я, кажется, сам с тобой играть разучусь!
С чучелом тоже вышла неудача. Грозный, туполобый пиногор был с грехом пополам выпотрошен — слава Богу! Теперь надо было сходить к врачу, взять у него медицинскую перчатку, надуть её внутри рыбины через трубку авторучки, завязать, а уж потом зашить брюхо, и подвесить на сквозняк — пусть высыхает!
Перечислять действия устанешь!
Понятное дело, не стал я озадачиваться по полной. Перчатку заменил презервативом (пачку их возил я, романтичный, по всему свету — в полной готовности к экзотическим его случайностям; сознаёмся — лишь в этот самый раз однажды они и пригодились). Ручку тоже развинчивать да прилаживать кропотливо не стал: налил противозачаточное водой, перехватил ниткой по скорому, всунул в рыбину, зашил, поставил на трубы в транспортёрной галерее — там всегда рыбу сушили.
Надёжно презерватив от рождения шедевра предохранил — развязался! Наверное, почти сразу. Вода вылилась, чучело перекосилось, скособочилось — мягко говоря! — до безобразия: без слёз не взглянешь! Скрючилось, чуть не в винтовую.
— Ты знаешь, это — как кружок «Неумелые руки!» — крякал Седой в кругу товарищей.
Но венцом моих творений явились, конечно, шлёпанцы «морские»!
— Это тебе надо из ленты транспортёрной — жёсткой — резать. В мукомолке, я видел, кусок оранжевой такой, как на транспортёре, лежит. Сходи — отрежь!
Сейчас! Стал бы я в мукомолку переться да из жёсткой такой ленты стельки мучиться — нарезать: у меня в трюмном тамбуре кусок серо-зелёной ленты — в полосочку! — валялся: мягенький!
Отрезал — по ступне, и, не мудрствуя лукаво, засобачил, не примеряясь, три дырки в треугольном порядке: центральную — на самом краю стельки. Продел, как Витя учил, тонкую, через них, верёвочку — в белый отрезок трубки от электрокабеля, связал — заплёл: кури взатяжку, «Salamander»!
Шлёпанцы вышли на славу! Мало того, что при ходьбе они гнулись, отвисая в шаге до самой палубы, но и все, аккурат, пальцы выходили строго за край подошвы: центральную дырку, у большого пальца, надо же было глубже делать — по месту примеряя.
Обновку оценили все.
— Слушай, ты мне одолжишь свои тапки на заход сейчас — в Аллапуловку! — хохмил ещё один наш Дружок (так его и кликали). — Пойду — когти об асфальт поточу!
Мы как раз заходили на рейд шотландского местечка Аллапул… Спасибо Судьбе, случаю и капитану Андрису Валерьевичу — я увидел кусочек Шотландии, устремлённый в небо шпилями соборов Инвернесс, с башнями замков на зеленеющем валу; озеро Лохнесс и Несси — в лужице у отеля, и изумрудно зеленеющие чертополохом, в ярких розовых крапинах, горные склоны!
Никогда не забыть!
А в катакомбах трюма и рыбцеха другое было. У дружной нашей, многими рейсами спаянной бригады, в которую принят был и я великодушно, раз в две недели, — как только бражка успевала отбродить, — выгонялась самогонка. Моторист Дружок, где-то в недрах машинного отделения, продукт и перегонял. И тогда уж была «свадьба» — всеобщая бригадная попойка. Я, хоть и зазывали товарищи хлебосольно, мероприятие на первых порах игнорировал. Хоть и дико было трезвым взглядом на пьяных сотоварищей наблюдать: то Дружок не по делу на меня «бычил», а то…
— Ну, ты же видишь — мы не успеваем! — Это раскачивающийся на упаковке Седой доходчиво объяснял, почему они не пакуют, как положено, идущие мне в трюм короба.
Похмелились уже — в начале вахты. Крепко! Так, что «поплыли».
Очень мне от такого объяснения полегчало, тем более что короба вскоре стали приходить всё с одной завязкой вместо двух, потом короб-другой являлся вообще не завязанным… А потом уж без завязок пошёл весь поток.
Картонные короба, не доезжая до меня, рассыпались на транспортёре, и ледяные брикеты выскакивали из них, летели, как снаряды, с грохотом ударяясь о палубу.
Через полчаса трюм походил на Куликово поле после битвы.
— Витя! Вы будете работать или нет?! Короба бьются!
— А ты возьми — вот! — проволоку и в трюме перевязывай!
— Витя, блин!..
— Ты, — безуспешно фокусировал невидящий взор друг, — можешь на нас жаловаться — хоть в ООН!
Как-то я доработал эту смену?! Благо, морозили мы не так много.
— Восемнадцать тонн, говоришь? — чесал подбородок Витя на другой день. — Да ладно — выгрузим как-нибудь!..
Переживал он за работу-то!..
Через две недели, как только пошла оживлённая возня после очередной вахты, я уже сидел в «дежурной» каюте Вити: пусть мне будет хуже!
Как мне было плохо на следующей вахте!.. Здоровый, привыкший к физическим нагрузкам спорта и работы организм не мог мириться с инородной гадостью:
— Тихо — не спеши! — как мог, регулировал скорость работы Витя, — Лёхе плохо!..
Дружок же бегал за сладеньким некрепким чаем: «Вот, попей — полегчает!»
И я сидел у трюмного лаза зелёный-зелёный… Но короба шли в трюм аккуратно упакованными — на две завязки.
До конца рейса я уж от коллектива не отрывался.
Приобретённые навыки я с лихвой приумножил и закалил — до недюжинного умения — в лихие девяностые: на их пороге тот рейс и случился. Когда порой не грех было выпить — грех было не выпить: чтобы не видеть — как в «Вий»! — той дьявольской
свистопляски мрази и нечисти, что творилась вокруг…
А уж больше дюжины лет спустя, обозрев каменную мозаику, что выкладывал я на заборе у тогдашних заказчиков Ланских (такую, что и проезжавшие машины сигналили, и люди, с расспросами да с комментариями под руку, останавливались), Витя в сердцах признался:
— Никогда бы я не подумал, что ты можешь такое делать!
Эх, дружище! Ладно — за всю твою науку тебе прощается, что меня не знал… Но как ты, гуру, в меня не верил?!.
Тем же вечером, выпив, как положено (а может — и сверх того), пива, Витя позвонил мне:
— А знаешь, я бы тоже так мог сделать!
Вот как та мозаика по душе пришлась!
— Да конечно, Вить! Если хочешь — я тебя научу!
* * *
— Алло!.. Привет, ещё раз. Чего-то ты и не попрощался — следом за партнёршей своей убежал… Это она была?.. Да, ну и нашёл ты себе — кикимору!.. Но она хоть в танцах соображает чуть. Ты за ней тянешься… А так, в общем — стадо! Слушай, а вот этот высокий, кучерявый — это кто?.. На педика малость смахивает… А это чё за мужик, в очках, толстый такой, что под конец пришёл?.. Детофил какой-то!
Вычислила. Рассортировала. Определила!
* * *
«Кикимору»?!
Гаврила был прилежный ученик на том паркете:
«Шагнул с одной ноги — шагай теперь с другой!»
Моя партнёрша — лучшая на свете!
И красоты её не видит лишь слепой!
* * *
Группа была небольшая. «Камерная», как выразилась, убеждая Любу в ней и остаться, маэстро Татьяна.
— А что такое — камерная? — не постеснялся по серости своей спросить я у Любы.
— То есть, небольшая — своя, можно сказать.
Две девчушки — подружки, в которых безошибочно угадывались студентки первокурсницы. Но точно из глубинки — одна, посещавшая занятия через раз, также через раз и здоровалась; другая — в очках, серьёзная в отношении занятий, вообще воспринимала приветствие как незаконное вторжение в частную её жизнь. Поэтому и танцевала либо со своей подругой, либо, в отсутствие той, одна. Была экстравагантная Екатерина — девушка лет двадцати пяти, ходившая в мужской шляпе. Тоже бывший преподаватель русского и литературы (хотя, сколько там она успела поработать?), ныне она продвигала «железных дровосеков» — мобильные терминалы. За некой внешней вычурностью Екатерина была приветлива и открыта к общению.
— Такие все счастливые! — смеялась она, выходя на лестницу после второго занятия.
Ещё бы — четыре шага ча-ча-ча тогда освоили: «Мы сделали это!» Хотя — перед следующим же занятием я подошёл к ней, пришедшей также пораньше, — пусть покажет ещё раз неисповедимое мне, убогому, «шоссе».
— …И вот здесь мы крутим восьмёрочку. Это вот так — работают вместе бёдра, живот, ну и попа, конечно. Мы с моим молодым человеком всё воскресенье дома тренировались — у меня до сих пор пресс болит.
Молодой её человек появился на занятиях через пару недель. Самодостаточный и самоуверенный юноша — «морено», сказали бы испанцы, — смуглый, черноволосый и черноглазый. Впрочем, амбиций молодости в нём было на обычные двадцать два. Нормальный паренёк. Маленький мачо.
Вторую пару составляли видная, светловолосая девушка — очень милая и простая, наших, верно, лет, и неприметный её спутник, лет на десять постарше. Без строевой выправки, с небольшими залысинами. Виделось сразу — очень добрый. Здесь он оказался явно волею своей партнёрши, за которой исправно тянулся, старательно вникая в процесс обучения. На первом же занятии (они появились в группе неделей позже нас) девушка в ходе разминки решительно сбросила свои туфли на высоком каблуке и продолжила занятие босиком.
Серьёзный, в общем, был у ребят настрой!
Самой солидной парой были представительный мужчина далеко за пятьдесят, всегда собранный, с удовольствием тянувший крепкую ладонь для рукопожатия, и черноглазая обаятельная женщина с красивой, очень женственной фигурой. Смуглянка. На первом же занятии ча-ча-ча они встали в правильную латинскую стойку.
— Видимо, они уже где-то занимались, — не без некоторой зависти оценила Люба.
— Но они тоже не муж и жена, — сообщила она как-то позже, — у неё муж и двое детей. Спрашиваю: «Как же ты везде успеваешь?» Смеётся: «Приходится — куда деваться?»
Хорошая у нас была группа! Без «понтов».
А приглянувшийся Алле Павел был приходящим. Он занимался с семичасовой группой, но, по особой к танцам любви (и по льготной, в этом случае, оплате), занимался, если время позволяло, и в нашей смене. Тем более, что его офис находился через дорогу. Как-то, слово за слово, узнав в досужем разговоре, что всю работу с камнем на Ушакова сделал я, он с искренним восхищением потряс мою руку:
— Когда ко мне польские партнёры приезжают, я их непременно мимо этого дома провожу: «Посмотрите, как у нас умеют делать!»
А мужик в очках — не такой уж, впрочем, и толстый, был тоже из соседней, семичасовой группы.
* * *
В субботу Люба заболела. Татьяна сообщила накануне:
— Она сегодня уже никакая — с трудом доработала.
— Так, а чего на больничный не идёт?
— А, видишь, ей нужно в поликлинику по месту жительства обращаться, а она же с Серёжей по части прописана. Такая же, как ты, птица — бесприютная.
Кирпич валился из рук, камень отказывался вставать красиво, мастерок тонул в жидко заведённом растворе — я должен был позвонить! Должен — и всё, даром что Сергей скорее всего дома.
Алло-у… Здравствуй, Лёша… Да нет — ко вторнику выздоровлю наверняка: не дождётесь!.. Ну ладно, Лёша — пока, а то, правда, так голова болит!
Когда возможно было мне бы
Забрать у Вас всю Вашу боль —
Часть долга я вернул бы Небу,
Тогда б на равных был с судьбой.
* * *
Во вторник опять была румба — для закрепления, должно быть. И была она — Любовь! А куда, с другой-то стороны, в румбе, да без неё? Правда, она опоздала…
Лёша же Добросовестный пришёл как обычно, за полчаса, и, дабы времени не терять, залебезил перед скучавшей Екатериной — ещё раз ему, заторможенному, «шоссе» с «восьмёрочкой» показать. После чего принялся чеканить их «на зеркало» —
нормальная практика занимающихся: не обращай внимания на сидящих — тебе надо, ты свои движения шлифуй.
Вот только в этот раз оказались одни залётные — в другие дни недели они занимались. Молодой человек со своей, по слащавым, на публику, поцелуйчикам надо было понимать, подругой. Супругой, будучи лет на двадцать кавалера старше, матрона быть вряд ли могла. Состоятельная, виделось, тётя. А что — очень даже по-латински! Молодой человек был высок и, надо отдать должное, мускулист. Закрепощёнными, впрочем, явно из спортзала, мышцами. С холёной бородкой эспаньолкой и надменной усмешкой самодовольного самца. В сущности — истый мачо. Он-то и вякнул, не смущаясь тем, что я всё прекрасно слышу:
— Хорошо, солнышко, в субботу тогда, раз мы не сможем поехать, схожу, тогда уж, на стандарт. Разомнусь чуть. А то скоро уже вот как тот, — он кивнул головой на меня, — Буратино буду танцевать.
«Буратино»?! Ладно, пропустим мимо ушей — не место и не повод для разборок: по сути-то он прав. По другому, вчистую надо его «сделать», а для того — шагай, давай! Любаша тоже, когда по ходу занятия мы в две шеренги стали друг против друга («партнёры на партнёрш»), вдруг резко сменила улыбку на прекрасном, выразительном своём лице на такую, сказал бы Слава, «бычину»: это мачо с надменно холёной усмешкой мерил её оценивающим взглядом.
Подавшись вперёд, я грозно прицелился в посягателя: я тебя за неё порву — de seguro*! Это моя партнёрша! Это моя — по румбе! — женщина.
Всё по понятиям! Чести, имелось в виду.
Я бережно вёл в танце Любовь. Передоверив ей улавливать сложный румбы ритм. Любе он тоже давался непросто.
— Сейчас… Не могу понять… Ага — пошли!
С Вами — хоть на край света!
А когда после занятий мы вышли на залитую вечерним светом улицу, я, вместо собиравшегося дождя, занудил о том, что партнёр вот у Любы никудышный — ритма различить не может, двигается, как Буратино.
— А я очень счастлива, что у меня такой замечательный партнёр! — впервые взяв меня под руку, весело воскликнула Люба.
Тепло её руки, что чувствовал я даже сквозь одежды, блаженным счастьем разлилось внутри.
— Тебя не шокирует поток Гаврилиных эсэмэс?
— Не дождётся, — не стала скрывать улыбки она, и повела своей и моей рукой, — Нет, я, конечно, не такая: «Мяу- мяу, где моё эсэмэс?» — но… Не дождётся!
* * *
Утром в автобусе я учил испанский. Записывал в походный дневник все три спряжения — глаголы склонял. Я вообще любил писать в пригородных автобусах — хлебом не корми! Когда есть добрый час для доброй работы. Добрая половина книжицы моей была написана в автобусах — на колене, натурально. Мир, прекрасно обозреваемый из окна, проносится мимо, гул мотора перекрывает болтовню пассажиров, мысль летит так чётко и стремительно, что к конечной остановке новый рассказ — вчерне — будет рождён. Время в дороге ни от работы, ни от семьи не урывается, а даже, получается, наоборот — расходуется с толком: совершенно творческая атмосфера, потому как — полная гармония! И день задастся наверняка: в самом его начале такое дело сделано!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Наверняка (исп.)
А самым «сенокосным» в этом смысле выдался двухтысячный год — год рождения моего
сына. Просто работы на загородном направлении много было…
Но нынче Гаврила был деловым: каждую минуту — с конкретной пользой. Для той же самой мечты.
Сегодня спрягался — сплошь и поперёк — глагол «dejar», имевший среди своих значений и «оставлять».
О, первое испанское спряжение (как, впрочем, и второе, и третье), ты — песня!
— Йо — дехо! Ту — дехас! Эль — деха, элья — деха, устед — деха!.. Носотрос — дехамос! Босотрос — дехайс! Эльос, эльяс, устедес — дехан!
Ведь проще пареной репы!
Всё в мачо пыжился Гаврила.
Глагол «dejar» он постигая,
Решил: «Ту, что вдохнула жизни силы,
По жизни не оставлю никогда я».
Серьёзное заявление — на всю-то оставшуюся… «Аsta la
muerte»*, проще говоря.
* * *
Мангал уже вышел на трубу. Высокую — на два с половиной метра мы с Александром размахнулись. Саня бы рад был и четырёхметровую забабахать — Гаврилы ж руками, — да на моё счастье кирпича не хватило. И так, по отношению к мангалу, труба была громоздкой, неприкаянной в смысле художественном. Но Гаврила заранее сей момент уж обмозговал: дурак дураком, а что-нибудь умное как придумает! Это же он смекнул треугольные обрезки кирпича — отходы! — из ванны станка вынимая, сложить в круг — получился цветочек. Правда, ровный по краям- «лепесткам», отчего несколько лубочный. Может, «великие» Костик с Олежкой такой находкой и возгордились бы, но нашего каменщика от сохи цветок удовлетворил не вполне. А ежели лепестки разными по длине сделать? Гонимый своей идеей, спешил, нарезал кирпичные кусочки, сложил, глянул, задохнулся от восторга: Антонио Гауди бы «заценил»! Обратил, конечно, взор кверху: «Спасибо, Небо, что не оставляешь!»
Теперь и надо-то было — вырезать по трём сторонам трубы прямоугольные ниши, цветочки аленькие туда умостить и галькой морской по краям облагородить, — всё! Дёшево и сердито. И тяжёлая труба, бездельная, между тем и до того, от эстетиче-
ской нагрузки, гранями своими превращалась в плоскость для чудного, притягивающего взор панно: меняем минусы на плюсы!
«Ура, ура!» — сказала бы тут Люба.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*До самой смерти (исп.)
Гаврила был каменотёсом,
В булыжнике он ведал толк.
И груду камня очень просто
Гаврила превращал в цветок.
День летел за работой. Вернее, работа поглотила, растворила в себе минуты и часы,
дачный посёлок и солнце осеннего дня — сейчас вокруг была только она!..
Ведь камень, что веками дышит,
Мгновенья ждёт, чтоб лечь на руки мастеров.
В пруду, на мостовой, в заборе, в нише,
Однажды встав, он вечность радовать готов!
Получалось — жуть! Скулы сводило. Труба на глазах превращалась в неотъемлемую деталь кирпичного ансамбля. Ключевую. Центральную. Из-за забора видную!
В том, что имеет камень душу,
Гаврила наш не сомневался.
И потому с душой, получше,
Уважить камень и людей старался.
Уж Светлану-то он сразит в самое сердце — это точно! За эти цветочки, что ни поливать, ни пропалывать, ни на зиму пересаживать не надо, она ему все грехи спишет.
Хотя, какие там грехи — муки творчества в «протяжке» сроков виноваты, — теперь-то очевидно всем!
Строго говоря, каменные цветы я уже высаживал. Там, на Ушакова. На «палубе». Апрельской субботой, наводя порядок в каменных своих развалах, решил скучковать треугольные обрезки-обломки. Те были очень ценны в укладке: краеугольные пустоты, образующиеся между большими камнями сплошь и рядом образовывали треугольники. И правильные, и неправильные: так что всё в дело пойдёт. И вот, экономя площадь
старого верного моего здесь друга — «низкорослого», но крепконогого козлика (я сколотил деревянный два года назад, с его высоты докладывая верха столбов), сгрудил треугольные камни в круг. И вдруг получился цветок — отчётливый, красивый, живой. Почерепив неделю, в следующую субботу я насмелился втихаря вкрапить цветок на «палубу». В тот день как раз приехали дизайнеры по мебели. И дискуссия с хозяйской стороной затеялась отчего-то во дворе — в двух шагах от меня, партизански своё «ноу-хау» внедрявшего.
Нашли место!
Я ещё, помнится, стушевался из-за куртки своей драной — мелкие осколки, вылетающие из-под фреза станка, неизменно целились в правый бок. Попытался даже у Гриши испроситься в подвале на время исчезнуть — пересидеть. На что он вполголоса заявил:
— А чего ты — тебе стесняться нечего! Это вот пускай они, — он указал на группу прибывших дизайнеров, — твоей работы шугаются.
Симпатичная женщина в туго обтянутых джинсах, стояла в метре от меня, ползающего на
коленях, и передислоцироваться никак не желала — словно её приклеили.
Коленопреклонённый пред Её Величеством Работой, голову я всё же время от времени
поднимал, открыто созерцая прелесть дизайнерских форм — исключительно ради внутреннего протеста.
Цветок получился уж очень натуральным — не по-масонски. «Масонский знак должен
быть виден, но не должен сразу бросаться в глаза», — так Татьяна учила.
— Да нет, — пожал плечами хозяин, — глаз он не режет — оставляем.
Вольный стрелок Миша истолковал порыв вольного каменщика по-своему.
— А как он называется? Наверное, Эрос? Нет, скажем прямо — похоть!
По долгу службы цепко приметил мой прицел на изящные линии.
— Я ей сказал, — не остался в стороне и Гриша, — ты, Анжелика, в следующий раз в юбке макси приходи — нечего лучших наших мастеров смущать, от работы отвлекать.
— Ты чё, правда что ли, ей так сказал?
— А что — пусть знает: здесь настоящие мужики работают!
Цветов каменных на ушаковской палубе я высадил аж семь штук — целый букет. Хотел даже подарить их хозяйке, но так отчего-то и не осуществил затею.
Отчего?
Недосуг, знать, было.
А три розы, обрамлённые морской галькой, ало пылали в мягких бликах осеннего заката.
